Второй причиной популярности «арийской» идентичности был ее культурно-исторический смысл, который ей придала колониальная эпоха. Ведь европейская колониальная и шовинистическая литература наделяла «арийцев» высокими боевыми качествами и страстью к завоеваниям, политической волей и способностью создавать государственность, творческой энергией и креативными художественными способностями. Такими предками можно было гордиться, и на них стоило равняться. Известно, что период строительства национального государства сопряжен с многочисленными трудностями, для успешного преодоления которых требуется сплочение нации. И, как это давно поняли националистические лидеры и идеологи, такое сплочение нуждается в психологической опоре на привлекательный миф, возбуждающий воображение и создающий приподнятое эмоциональное состояние, волю к победе. В этом смысле образ великих предков всегда служил верной опорой самым разным националистам.
В-третьих, образ «арийцев», увязанный с современным Западным миром, позволяет отождествлять себя с современной цивилизацией и дистанцироваться от образа «азиатов», который с советских времен нагружался негативными смыслами («бедные», «грязные», «заразные», «отсталые», «нецивилизованные» и пр.). Примечательно, что это вовсе не мешает тому, что у таких «потомков арийцев» могут встречаться и антизападнические настроения. Ведь образ «арийцев» апеллирует к абстрактному идеалу «цивилизации», тогда как антизападнические настроения нацелены против вполне конкретных особенностей или политических действий, демонстрируемых современным Западом. Кроме того, такой образ «арийцев» более всего нужен именно для внутреннего пользования.
Наконец, в-четвертых, образ «арийцев» может использоваться и прагматически для налаживания деловых отношений как с Западом, так и с Россией (или даже с Ираном). Для этого политическая риторика государственных деятелей и дипломатов может делать отсылку к «общим предкам» или «общим историческим корням», что, как ожидается, способно сблизить партнеров и вызвать расположение у собеседников.
Существенно, что, судя по приведенному обзору, взаимоотношения между «арийцами» и «тюрками» можно представить тремя разными способами. Во-первых, можно отождествить древних предков с «арийцами» и противопоставить их «тюркским захватчикам». В этом случае подчеркивается лингвистический фактор, причем «арийцы» описываются как носители высшей культуры, а «тюрки» – как «чужаки-варвары», разрушители великих цивилизаций. Такой образ «тюркских варваров» был типичен для «албанской теории» в Азербайджане (подробно см.: Шнирельман 2003) и разделялся некоторыми интеллектуалами в Туркменистане. В обоих случаях наблюдалось стремление к присвоению политического и культурного наследия древнего оседлого населения (албанов в Азербайджане и иранцев в Туркменистане), чтобы дистанцироваться от образа «варваров».
Во-вторых, можно было тюркизировать арийцев и представить их тюрками. Этот прием использовали ревизионисты, пытавшиеся наделить предков «арийской славой», не отказываясь при этом от идеи лингвистической преемственности. Кроме того, в этом следует видеть ответ соседям, которые, гордясь своим «арийством», называли тюрков «варварами». В то же время ко второму подходу обращалось многоэтничное государство, стремящееся интегрировать этнические меньшинства в единое общество (Казахстан с его крупным русским меньшинством и Узбекистан с его таджикским меньшинством).
В-третьих, «арийцев» можно было противопоставить «тюркам», но в совершенно ином контексте, где предки изображались «тюрками», постоянно отбивавшими атаки «арийцев». Здесь «арийцы» выглядели жестокими захватчиками, империалистами, колонизаторами, эксплуататорами, что лежало в основе антиколониальной идеологии, сплачивавшей общество. Этот третий подход развивался в особенности в Узбекистане, и далее мы увидим почему.
Примечательно, что в центральноазиатском и крымском контекстах образ «арийцев» приобретает в устах русских националистов особое значение. Там он призван помочь русскому меньшинству бороться против дискриминации, ссылаясь на свой статус «коренного населения», якобы унаследованный от «арийских предков» (Абакумов 1995; 1997; 2000; Есипов 1994; Карпов 1996).
Но такая «арийская археология», представленная, в частности, на Аркаиме, вызывает в тюркском мире негативную реакцию. Там, как мы видели, ей противостоит пантюркистская версия древнего прошлого евразийских степей, тюркизирующая древних степных кочевников и их предков, обитавших там в бронзовом и раннем железном веках. Такие взгляды начали разрабатываться некоторыми учеными тюркского происхождения еще в 1970 – 1980-х гг., что и вызывало бум пантюркизма в постсоветские десятилетия (подробно см.: Shnirelman 1996a; Шнирельман 2003; 2006). Одним из крупнейших авторитетов в этой среде считается татарский лингвист М. З. Закиев. Он еще с 1970-х гг. доказывал не только тюркоязычие всех кочевников раннего железного века (тохаров, скифов, саков, сарматов, аланов и пр.), но и вел историю тюркоязычия с эпохи позднего палеолита (20–30 тыс. лет назад) (см., напр.: Закиев 1995: 24–31; 2003: 76 – 190) 414. В частности, и ариев он превращал в тюрков, полагая, что тем самым делал большой вклад в борьбу с расовой теорией (Закиев 2003: 54, 95–96, 188, 369–373).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
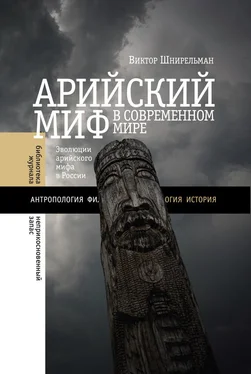
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)








