Взаимоотношения Петухова с наукой требуют особого обсуждения. Хотя в своей автобиографии он упоминает, что в 1980-х гг. якобы пошел на «полный разрыв с Отделением истории АН СССР» 218, однако, не будучи историком, он никогда не имел никакого отношения ни к Отделению истории, ни к какой-либо организации профессиональных историков. Так что этого «разрыва» никто не заметил, кроме него самого. Однако отсутствие признания в кругах профессионалов, очевидно, было для него болезненным, и в своих «альтернативных историях» он никогда не упускал случая с яростью набрасываться на ученых, обвиняя их во всевозможных прегрешениях: недооценке «славянского прошлого», слепом следовании установкам «романо-германской школы», искажении истории в угоду неким политическим силам, сокрытии «исторической истины» от народа и пр. В частности, он укорял ученых в игнорировании разработок представителей патриотической «славянской школы» XIX в., вызывавших критику даже у своих современников, а затем и вовсе отброшенных за отсутствием научного подтверждения. Иными словами, Петухов всячески пытался представить ученых «фальсификаторами» – якобы их главной целью было утаивание исторической истины, чего от них требовали некие заинтересованные политические силы.
Себя же Петухов выставлял бескорыстным борцом за «истинное знание» и постоянно подчеркивал свой «профессионализм». На словах он всячески дистанцировался от «народной этимологии» и заявлял, что его работам она не свойственна (Петухов 2008: 274; 2009б: 30). Между тем подавляющее большинство его собственных экскурсов в лингвистику основывались именно на ней. Укоряя ученых в «искажении фактов» в угоду привходящим политическим соображениям, сам он именно этим и занимался. Например, обрушиваясь на «норманизм» за его обслуживание политических интересов 219, сам он стоял на позициях дремучего «антинорманизма», пытаясь возродить аргументы 200-летней давности, диктовавшиеся именно «патриотической», а не научной позицией (Петухов 2009б: 347–441). Иными словами, он постоянно обвинял ученых в тех прегрешениях, которыми сам в значительной степени и страдал.
Правда, Петухов старался следить за научными достижениями и со временем мог радикально менять свои взгляды. Так, совершив поездку по странам Ближнего Востока, к началу 2000-х гг. он кое в чем существенно пересмотрел свои более ранние воззрения. Если поначалу он с симпатией относился к «гиперборейской идее» (Петухов 1998а: 330–334), то затем, в отличие от многих других национал-патриотов, перестал искать «арийскую прародину» на далеком Севере (Петухов 2009а: 70, 83–84) 220. Не признавал он и участия инопланетян в развитии человеческой цивилизации. Чтобы придать своим новым книгам «научный облик», он тщательно изучал обобщающие труды, написанные археологами и историками, и кусками заимствовал из них научные данные, включая их в свое повествование. Поэтому в отличие от многих своих единомышленников он, как правило, давал верные описания археологических культур и их датировки. Он даже иной раз ссылался на работы ученых, хотя и не любил это делать, считая это «порочным и недопустимым в подлинной науке [методом]» (Петухов 2009б: прим. на с. 246–247). Он предпочитал ссылаться на сочинения фантаста В. И. Щербакова, имя которого в его книгах встречается много чаще.
Однако, не будучи специалистом, Петухов был не способен оценить надежность тех или иных гипотез. Так, он принимал на веру сомнительную идею археолога Г. Матюшина о связи праиндоевропейцев с геометрическими микролитами; специалисты эту гипотезу не разделяют. Кроме того, отказавшись от «гиперборейской идеи» (Петухов 2001: 342–343; 2009а: 82–87), он сохранил доверие к фантастическим рассуждениям украинского археолога Шилова о государстве Аратта, якобы возникшем еще в неолите на территории Украины; верил он и сомнительным «находкам» древней письменности в гротах Каменной Могилы близ Мелитополя (Петухов 2001: 407–409). У него также не вызывали сомнения утверждения некоторых националистически настроенных современных индийских ученых о том, что древнеиндийская (хараппская) цивилизация была создана «арийцами» и там господствовал санскрит (Петухов 2008: 397–410). На удивление, заботясь о «научности» своих произведений, он не ставил под сомнение дилетантские дешифровки Гриневича и фантастические построения Вашкевича. Зато он подчеркнуто игнорировал Аркаим, очевидно связывая его с идеей Северной прародины.
Он также делал весьма показательные ошибки в изложении научных данных (например, утверждая, что «арийцы» открыли земледелие, он в то же время этимологизировал термин «арийцы» как «орачи», то есть «пахари», не понимая, что раннее земледелие не знало никакой пахоты, а было палочно-мотыжным). В своих оценках прочитанного он руководствовался прежде всего патриотическими соображениями. Он, во-первых, тщательно отбирал лишь те факты и идеи, которые могли подкреплять его концепцию (в том числе, иногда извлекал из старых изданий гипотезы, давно отброшенные наукой), а во-вторых, давал им чудовищные интерпретации, с которыми не мог бы согласиться ни один специалист. Кроме того, Петухов активно пользовался художественным приемом повтора: чтобы убедить читателя в своей правоте, он делал ставку не на научные аргументы, а на бесконечные воспроизведения тех положений, которые казались ему принципиально важными. И не случайно свои выводы он иной раз называл не «аргументами», а «постулатами». Поэтому его «этнологические тексты» нередко напоминают шаманское действо, где автор движется по замкнутому кругу, постоянно возвращаясь к одним и тем же утверждениям.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
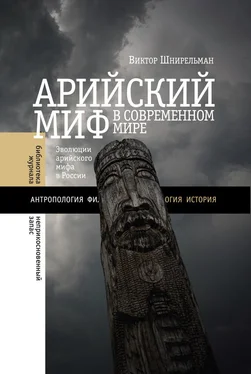
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)








