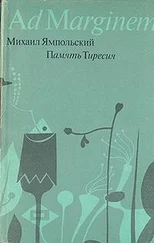Есть некая глубинная мистическая боязливость, опасение общаться с такими вот фантомными, бродящими из мира в мир, переступающими через границу как бы дозволенного сущностями.
Такая сущность, замечал Пригов, отличается от привычных нам образов фантазии, она
отстоит от них всех на расстояние трансцендентного монического, возвращенного нам в форме появления, исчезновения, мерцания и умилительного смирения перед лицом нашей тотальной неспособности постичь истинную суть происходящего [164].
Одним словом, «сущность» – это материализация транзитности.
Но почему Пригову вообще нужны такого рода материализации? Дело в том, что вся его поэтика, постулируя наличие автономных миров, в том числе и автономию означающих от означаемых, стремится подчеркнуть их подлинную взаимную изолированность, принимающую почти материальный характер. Между мирами как бы возникает «перегородка». Если нет мира жестов, отчетливо отделенного от мира текстов, то и транзитность между ними не имеет смысла. Без этой «перегородки» они просто коллапсируют в неразличимую магму и, что едва ли лучше, в то, что Адорно называл «видимостью» (Schein). Напомню, что Адорно и Хоркхаймер в «Диалектике просвещения» описывали эволюцию западной культуры как движение от мифологического к рационально-понятийному мышлению, для которого мир превращается в набор видимостей, отсылающих к неким «сущностям» – идеям. Видимый облик вещи – это просто явление идеи, понятия, числа и т. д. Иначе в мифологическом мышлении:
Когда с деревом обращаются не просто как с деревом, а как со свидетельством чего‐то иного, как с местопребыванием мана, язык обретает способность выразить то противоречие, что нечто является им самим и в то же время чем‐то иным, нежели оно само, идентичным и неидентичным. Благодаря божествам язык из тавтологии становится языком. Понятие, которое расхожей дефиницией определяется в качестве единства признаков под него подводимого, напротив, с самого начала было продуктом диалектического мышления, для которого что‐либо есть то, что оно есть, лишь благодаря тому, что оно становится тем, чем оно не является. Таковой была первоначальная форма объективирующего определения, в которой разошлись врозь понятие и вещь ‹…› [165].
С такой точки зрения, прямая референтность – это результат рационального расколдовывания мира, изгнания из мира богов, которые держат ключи к смыслам в радикально иной области, области трансцендентного и природного одновременно. Когда различие между миром богов и миром людей исчезает, все упрощается до отношений субъекта и объекта, видимости и понятия. То, что мифологический (и поэтический) язык одновременно выражает идентичность и отрицает ее, и приводит к странному шаманическому демонизму, возникающему именно как результат разделения божественного и человеческого миров [166].
Сущности у Пригова противоположны сущностям Адорно и Хоркхаймера. Они подобны мифологическим существам, возникающим от перехода от одного мира к другому, притом что миры эти решительно отделены друг от друга. Именно в момент перехода и возникают монстры приговских сущностей. Стихи цикла «Явления стиха после смерти» сами являются такими сущностями – ожившими мертвецами, существующими на переходе от жестового мира к текстовому и наоборот. Младенец в воде – не жив и не мертв – это «сущность», о которой Пригов говорит, что она «отстоит от всех миров на расстояние трансцендентного монического». «Трансцендентного» – то есть невообразимого для нашего опыта, «монического» – то есть не знающего подлинного различия между мирами, картезианского дуализма материального и умозрительного. Но «трансцендентное моническое» – это и есть смысл, возникающий в результате транзитности как жеста. Смысл – это сущность. И тут, конечно, нет ничего удивительного.
Возникновение «монической сущности» происходит только в режиме транзитности, которая невозможна без взаимной изоляции миров. Миры должны быть разделены некой мембраной, перегородкой, завесой, которую можно назвать «экраном». Если такой перегородки нет, нет и жеста проникновения, пронизывания, соединения разделенного. Отсюда – тесная связь между сущностью и материальностью медиума, экрана, неизменно присутствующими у Пригова.
Я говорю об экране потому, что экран – это белая непроницаемая для взгляда поверхность, на которую может проецироваться иллюзия иного мира. Пригов признавался, что в кино любит титры, которые выявляют двойственную онтологию экрана – окна и листа бумаги одновременно. Вот что он говорил по этому поводу:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу