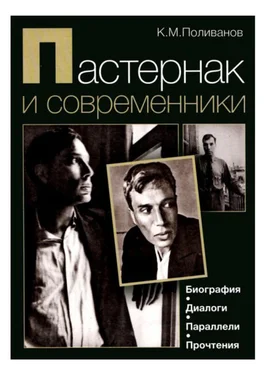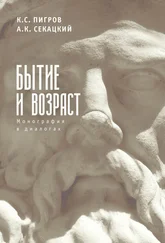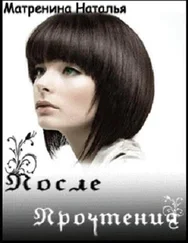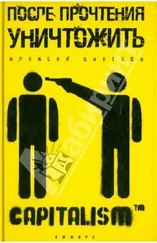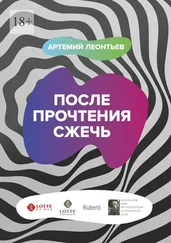Для проверки этого предположения обратимся сперва к упомянутому уже письму Пастернака Цветаевой 20 апреля 1926 года: «<���„.> Я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне <���…> Мне снились начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть, и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз такие коридоры. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты, я легко пробежал по взволнованным светом пролетам и скатился по лестнице. Действительно, в чем-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной, а крылатой, планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал <���…> Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья, т. е. в антропоморфной однородности воздуха и часа – Цветаевой <���…»>.
Многие фрагменты поэмы легко прочитываются как прямые ответы на это письмо: отклик на «безгрешную гостиницу без клопов и быта» легко опознать в строках:
Гостиница
Свиданье Душ.
Дом встречи…
Отметим, что стоит лишь переставить слова местами, и мы получим заведомо «грешный» дом свиданий, быть может, здесь еще и намек на строки пастернаковского стихотворения «Из суеверья» – «О, не об номера ж мараться по гроб до морга…» (встречаться с возлюбленной в номерах – знак заведомой «пошлости». Подробнее о соотнесенности поэмы с этим стихотворением см. ниже).
«Как раз такие коридоры» угадываются в строках:
Только ветер поэту дорог
В чем уверена – в коридорах…
«Стенная, половая и потолочная аналогия» прямо связывается со стенами, потолком и полом конструируемой в воображении комнаты, что упоминается в поэме неоднократно.
Таким образом, если мы предполагаем, что поэма Цветаевой явилась своеобразным ответом на письмо Пастернака, то комната оказывается прежде всего комнатой из пастернаковского сна (в котором Цветаева к тому же и сама «присутствовала»). Этим может объясняться то, что
…Запомнила три стены,
За четвертую не ручаюсь —
во сне трудно точно «пересчитать» стены.
Впрочем, как и с большей частью других строк, образов и мотивов поэмы, это объяснение может быть не единственным – множественность значений ключевых образов, символов поэмы является важнейшей конструктивной особенностью. О том, что комната связана со сном, прямо говорится в строках:
…Комната наспех составлена,
Белесоватым по серу —
В черновике набросана.
Не штукатур, не кровельщик —
Сон <���…>
…В пропастях под веками
Некий, нашедший некую.
Не поставщик, не мебельщик —
Сон <���…>
То, что комната для мыслимого свидания помещается Цветаевой прежде всего во сне, – достаточно естественно. Неоднократно в письмах и стихах она говорила о сне как о полноценной форме контакта между людьми. Например: <���«…> Мой любимый вид общения – потусторонний: сон, видеть во сне <���…»> в письме Пастернаку 19 ноября 1922 года. Или в самом начале поэмы «К морю»:
…Из своего сна
Прыгнула в твой.
Снюсь тебе. Четко?
Глядко? <���…>
…(сон взаимный).
Видь, пока смотришь:
Не анонимный.
О том же – «Авось, увидимся во сне…» в одном из стихотворений цикла «Провода» в 1923 году [140].
С мотивом сна, вероятно, связаны и строки:
<���…> Точно старец, ведомый дщерью,
Коридоры: <���…>
Здесь, пожалуй, имеется в виду Эдип, который в 1920-х годах мог легко ассоциироваться с автором идеи «эдипова комплекса» и толкователем сновидений 3. Фрейдом.
Встреча как встреча во сне, быть может, потому так часто и возникает в поэтическом и эпистолярном диалоге Цветаевой и Пастернака, что их физическая реальная встреча во времени и пространстве не только трудноосуществима – он в России, она – в эмиграции, но для обоих, видимо, понятно, что, осуществись она, – неясно, куда девать всю ту взаимную экзальтацию, которая с 1922 года наполняет их переписку. У обоих – семьи, дети и прочее. В письмах то и дело возникает вопрос: «Что мы будем делать, когда встретимся?» След этого вопроса остался даже в части письма к Рильке от 3 июня 1926 года, предваряющей саму поэму: «…Слова из моего письма Борису Пастернаку: „Когда я неоднократно тебя спрашивала, что мы будем с тобою делать в жизни, ты однажды ответил: „Мы поедем к Рильке““».
В то же время одной из регулярных существенных тем переписки Пастернака и Цветаевой становится поиск точек взаимного соприкосновения. За обсуждением общих знакомых – И. Эренбурга, Э. Триоле, Е. Ланна и др., литературных пристрастий, взглядов на жизнь и искусство, впечатлений детства – стоит, если можно так выразиться, поиск «духовного» пространства для встречи. Поскольку встреча в реальных пространстве и времени представляется малоосуществимой, корреспонденты создают пространство мнимое, мыслимое, литературное. К таким мнимым пространствам относится и прошлое – вспомним тщательное описание в их переписке всех обстоятельств четырех случайных московских встреч 1918–1922 годов, когда поэты практически не были знакомы. К подобным «духовным» пространствам можно отнести и совместную экзальтированную привязанность к Р. М. Рильке. Естественно, на роль такого пространства претендует и посмертное существование:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу