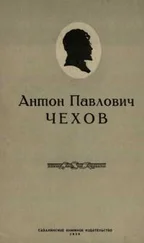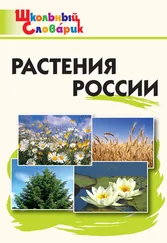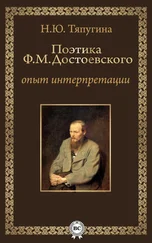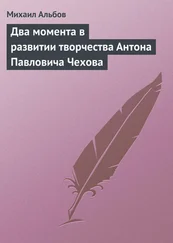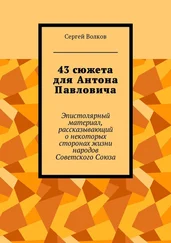Начинался «лейкинский» («осколкинский») период творчества Чехова. От начинающего литератора требовалась беспрестанная, в срок, поставка лаконичного (100 слов!) и непременно смешного материала «на злобу дня». Это были анекдоты, фельетоны, зарисовки, сценки, репортажи – все то, что в комических тонах отражало «пестроту» жизни.
Чехов оттачивал свое перо на «малых формах», приправляя их легкой комической смесью. Кто только ни отразился в ранних чеховских публикациях! Образы теснились к Чехову веселой гурьбой, сюжеты буквально роились над предметами, на которые падал его взгляд. Как засвидетельствовал современник, Чехов «начинал литературную карьеру почти шутя, смотрел на нее частью как на наслаждение и забаву, частью же как на средство для окончания университетского курса и содержания семьи.
– Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? Вот.
Он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, – это оказалась пепельница, – поставил ее передо мною и сказал:
– Хотите, – завтра будет рассказ… Заглавие «Пепельница».
И глаза его засветились весельем. Казалось, над пепельницей начинают уже роиться какие-то неопределенные образы, положения, приключения, еще не нашедшие своих форм, но уже с готовым юмористическим настроением…» (из воспоминаний В.Г. Короленко).
Свои «мелочи» и «пустяки» он подписывал многочисленными смешными псевдонимами: Брат своего брата, Вспыльчивый человек, Г. Балдастов, Человек без селезенки, Врач без пациентов. Но чаще всего – Антоша Чехонте, видимо, припомнив детское прозвище, что дал ему еще в Таганроге местный протоиерей.
По воспоминаниям Короленко, выглядел в эту пору Чехов «молодым дубком, пускающим ростки в разные стороны, еще коряво и порой как-то бесформенно, в котором уже угадывается крепость и цельная красота будущего могучего роста».
Лейкин, несомненно, сыграл важную роль в писательском становлении Чехова на первом этапе его творчества. Издатель «Осколков» раньше многих распознал его юмористическое дарование. По-своему воспитывал: «Писать нужно больше, одно скажу. Надо выгнать из себя ленивого человека и нахлыстать себя». Ему удалось приучить и приохотить молодого Чехова к неустанному писательству. Благо, и ученик у него был способный. И даже когда Чехов многократно перерастет своего наставника, он все равно будет относиться к нему неизменно уважительно и доброжелательно: «Осколки» – моя купель, а Вы – мой крестный батька» (из письма Чехова от 27 декабря 1887 года).
В 80-е годы один за другим выходят сборники рассказов Чехова: «Сказки Мельпомены» (1884), «Пестрые рассказы» (1886), «В сумерках» (1887), «Рассказы» (1888).
Чехов начинает приобретать известность. Первым серьезным критиком, уважительно отозвавшимся о его литературных опытах, был Л.Е. Оболенский. Однако и он попенял на то, что, как писатель, Чехов «народился, так сказать, в ослиных яслях, или, говоря менее высоким слогом, в юмористических журналах,…среди навоза, которым покрывают свои страницы эти несчастные листки, в виде карикатур на обманутых мужей, на зловредных тещ и в виде рисунков с обнаженными бабами. Среди такого общества трудно было заметить г. Чехова».
Но подлинный талант виден всюду. Разве можно было не выделить такие рассказы, как «Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия», «Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Унтер Пришибеев», «Злоумышленник»?
И все-таки факт остается фактом: Чехов пришел в серьезную литературу из «ослиных яслей» юмористики самого массового разбора. Серьезные литераторы относились к этому не без высокомерия. Были и такие, что поначалу решительно объявляли: никогда не будут они читать писателя, вошедшего в литературу под таким нелепыми псевдонимами. «Нельзя представить себе, – говорили они, – чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой» (из воспоминаний о Чехове И.А. Бунина).
Но у каждого – свой путь. Участие в юмористической периодике не снижало у Чехова требовательности к себе. Про «Пестрые рассказы», к примеру, Д.В. Григоровичу он написал так: «Книжка моя мне очень не нравится. Это винегрет, беспорядочный сброд студенческих работишек, ощипанных цензурой и редакторами юмористических изданий».
Чехов не кокетничал и не лицемерил: именно так – с постоянной неудовлетворенностью и критицизмом относился он почти ко всему написанному им.
Вот почему так важно было ободрение, так нужна была поддержка со стороны тех, кто к моменту его литературного дебюта был уже заслуженным патриархом. Оттого такое огромное впечатление произвело на Чехова письмо Д.В. Григоровича, автора знаменитого «Антона – Горемыки», в котором тот, почти легендарный человек, сказал ему: «У Вас настоящий талант, – талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколенья».
Читать дальше
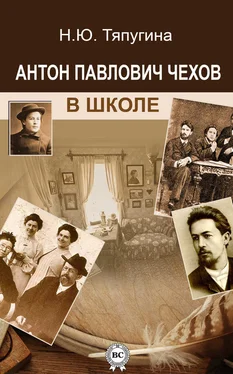

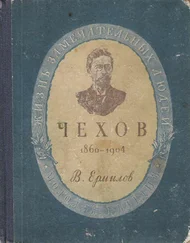

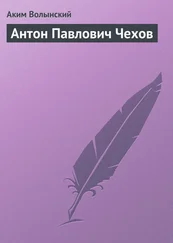
![Антон Агафонов - Неудачник в школе магии. 1-4 тома [СИ]](/books/388066/anton-agafonov-neudachnik-v-shkole-magii-1-thumb.webp)
![Станислав Антонов - Красный чех [Ярослав Гашек в России]](/books/405510/stanislav-antonov-krasnyj-cheh-yaroslav-gashek-v-ros-thumb.webp)