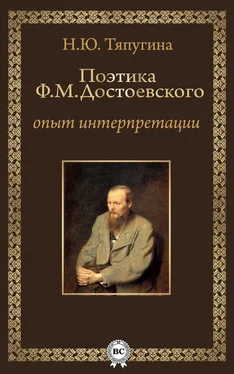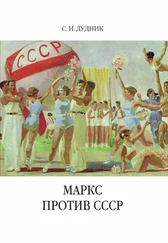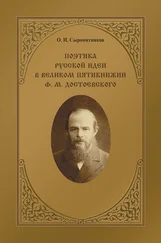Сам грех Рогожина, кровавая его вина обретают в романе характер национального «забвения всякой мерки во всем».
В «Дневнике писателя» у Достоевского есть потрясающее по психологической точности объяснение русской натуры, которая во внезапных иррациональных всплесках подчас и раскрывает то, что надежно удерживается буднями в силках привычек и обычаев. При этом катализатором может быть что угодно: любовь, вино, самолюбие, ревность. И вот тогда, срываясь со всех тормозов, несется человек к самому краю и уже не властен он в самом себе…
И в «рогожинском» случае, и в народной судьбе – не было бы оснований для спасения, если бы в русском мире не существовало не менее упорного противодействия. И тогда «с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – порыва отрицания и саморазрушения»(XXI, 35).
Так и Парфен Рогожин, упав на дно собственного кошмара, еще не веря до конца в его свершение, еще хлопоча в привычных житейских координатах, расставляя склянки со ждановской жидкостью возле накрытой американской клеенкой Настасьи Филипповны, начинает сколь мучительное, столь и неудержимое возвращение к своей истерзанной душе. И князь Мышкин добрым «мареевым» жестом, поглаживая грешника по лицу, помогает ему в этом возвращении. Этот инстинктивный жест, зародившись еще в здравом сознании, вывел Мышкина за пределы реальности: «Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провести дрожащею рукой по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его» (612).
Объединившись во Христе, побратавшись крестами, эти герои окончательно слились в своих судьбах друг с другом. И хотя «искушение Дьявола» состоялось, но оно повлекло за собой лишь физический распад: Мышкин, и уходя из разума, остается помощью и поддержкой Рогожину; Рогожин, и совершив преступление, не отрешен от духовного возрождения; Настасья Филипповна, и отправляясь на заклание, думает не о себе, а о князе. Так открывается одна из самых загадочных заповедей Христа: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геене» (Евангелие от Матфея, гл. 10).
И в самом деле, несмотря на трагическую очевидность финала, остается несомненная уверенность в возможность духовного преодоления распада и греха… Роман убеждает в том, что Князь Христос – это не русский мираж, а реальная, хотя и не всегда различимая перспектива.
Из воспоминаний А. Г. Достоевской известен факт, произведший на Ф. М. Достоевского исключительно сильное впечатление и нашедший художественное воплощение в его романе «Идиот». В 1867 году, путешествуя по Европе, наслышанный о картине Ганса Гольбейна «Мертвый Христос», хранящейся в музее Базеля, писатель специально заехал в этот город и был буквально поражен увиденным.
На картине был изображен Иисус Христос, снятый с креста. Вид его был ужасен. Нечеловеческие страдания, кровавые раны на вспухшем лице, уже тронутом следами тления, производили на зрителей тяжелое впечатление. Анна Григорьевна просто не в силах была смотреть на картину и отправилась в другие залы, но Федор Михайлович замер перед ней. «Когда минут через пятнадцать-двадцать я вернулась, – пишет в своих воспоминаниях А. Г. Достоевская, – то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии». [64] Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1987. С. 186.
А в «Дневнике 1867 года» жена писателя зафиксировала такую важную деталь, касающуюся смысла потрясшей его картины: «Она страшно поразила его, и он тогда сказал мне, что «от такой картины вера может пропасть». [65] Цит. по кн.: Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому: Материалы, библиография и комментарии. Пг., 1922. С. 59.
Знакомство Достоевского с картиной Гольбейна произошло как нельзя кстати. В это время писатель напряженно обдумывал план романа о человеке, который стремится внести гармонию и примирение в разрозненное современное общество. Достоевский искал художественные «механизмы», с помощью которых можно было бы осуществить это. Образ Христа, как уже было сказано, естественно возник уже на стадии замысла. И вдруг – Спаситель, один вид которого вызывает не столько сострадание, сколько ужас от «темной, наглой и бессмысленно-вечной силы, которой все подчинено.» Именно так сформулировал свое впечатление Достоевский, передав его в романе изверившемуся, разочаровавшемуся в жизни Ипполиту Терентьеву, для которого картина явилась еще одним весомым аргументом в пользу того, что в страшном владычестве действительности вере просто не за что зацепиться. Вот почему и возникает у героя кощунственный вопрос: «И если б этот самый Учитель мог увидеть свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь?» У Ипполита положительного ответа на эти вопросы нет. Он убежден, что темные силы действительности одолеть нельзя.
Читать дальше