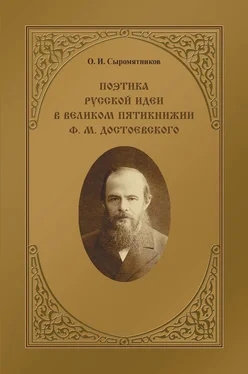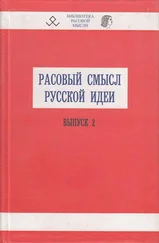1 ...8 9 10 12 13 14 ...20 Многие из этих мыслей были, безусловно, близки Каткову, но свои требования к роману он не смягчил. Наибольшие нарекания вызвала сцена чтения Евангелия и последующий разговор Сони с Раскольниковым. По требованию редакции Достоевский неоднократно изменял её первоначальный вариант, и наконец 8 июля 1866 года он пишет редактору «Русского вестника» Н. А. Любимову: «Переделал и, кажется, в этот раз будет удовлетворительно. Зло и доброе в выс шей степени разделено, и смешать их и истолковать превратно уже никак нельзя будет. Равномерно, прочие означенные Вами поправки, я сделал все и, кажется, с лихвою <���…>. А теперь до Вас величайшая просьба моя: ради Христа – оставьте всё остальное так, как есть теперь. Всё то, что Вы говорили, я исполнил, всё разделено, размежевано и ясно. Чтению Евангелия придан другой колорит. Одним словом, позвольте мне вполне на Вас понадеяться: поберегите бедное произведение моё, добрейший Николай Алексеевич!» [28, 2; 164].
Об осложнившихся отношениях с «Русским вестником» писатель с тревогой сообщает А. П. Милюкову: «В расчете Любимова <���…> была ещё и другая <���…> мысль, а именно: что одну из этих, сданных мною 4‑х глав, – нельзя напечатать, что и решено было им, Любимовым, и утверждено Катковым. Я с ними с обоими объяснялся – стоят на своём! Про главу эту я ничего не умею сам сказать; я написал её в вдохновении настоящем, но, может быть, она и скверная; но дело у них не в литературном достоинстве, а в опасении за нравственность. В этом я был прав, – ничего не было против нравственности и даже чрезмерно напротив, но они видят другое и, кроме того, видят следы нигилизма. Любимов объявил решительно, что надо переделать. Я взял, и эта переделка большой главы стоила мне, по крайней мере, 3‑х новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал. Но вот беда! Не видал Любимова потом и не знаю: удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами? То же было и ещё с одной главой (из этих 4), где Любимов объявил мне, что много выпустил (хотя я за это и не очень стою, потому что выпустили место неважное). Не знаю, что будет далее, – но эта, начинающая обнаруживаться с течением романа противоположность воззрений с редакцией начинает меня очень беспокоить» [28, 2; 166]. Наконец, 19 июля 1866 г. Достоевский лично обращается к Каткову: «Что же касается до переделок и выпусков, сделанных Вами, то некоторые из них, как замечаю теперь, конечно, необходимы, но других выпусков (в конце) мне жалко. <���…> Об одном бы выпуске попросил Вас, на странице 786 (отметил на полях карандашом NВ) – нельзя ли восстановить? Тут ясно для читателя, что если он говорит: я счастли<���в>, то уж, конечно, не потому, что любуется своим поведением. Впрочем, если нельзя, то нечего делать» [28, 2; 166–167]. Просьба писателя осталась без удовлетворения. Особое значение для понимания идейного содержания литературного произведения имеет оценка его самим автором. Достоевский писал о романе: «Надо заметить, что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтоб кончить его хорошо» [28, 2; 156]; «Одним словом, мне бы хотелось кончить роман так, чтоб подновить впечатление, чтоб об нём говорили так же, как и вначале» [28, 2; 170] и т. д. Думается, это удалось вполне, потому что, работая над отдельным изданием романа (1867), Достоевский, по наблюдению Л. Д. Опульской, «никаких добавлений (кроме отдельных слов и фраз) <���…> не внёс, а напротив – сделал сокращения, устранив длинноты и сняв второстепенные детали» [13] Опульская Л. Д. Комментарий к Полн. собр. соч. Ф. М. Достоевского в 30 томах. – Л.: Наука, 1973. – Т. 7. – С. 328.
.
Внимание читателей и исследователей всегда привлекала социальная проблематика романа, особенно те её детали, которые представлены писателем в традициях «натуральной школы», а также «психологизм», под которым обычно понимается описание душевных переживаний героев. Известно, что сам Достоевский выступал против такой оценки. Картины внешней (в т. ч. и социальной) действительности и душевного мира человека в его произведениях всегда служат для проникновения в духовную реальность и вхождения в символический уровень повествования, выражающий русскую идею . На этом уровне личная судьба героя развертывается до соборной судьбы всего народа.
Эту особенность романов Достоевского ещё в 1970 году тонко почувствовал В. Я. Кирпотин: ««Преступление и наказание» нигде не перестаёт быть художественно-индивидуализированным рассказом о Раскольникове, о его внутренней жизни, о его идеях и замыслах, о его преступлении, о его наказании, о его судьбе. Но в рассказе само собой складывается общее, из рассказа сам собой выступает смысл, который в конце концов один только и важен был Достоевскому, потому что он горел всеми горестями мира и с неистово спешащей тревогой искал средств для его исцеления. Личность Раскольникова и всех сопровождающих его лиц <���…> даже тогда, когда <���они> не думают об этом, двигают историю. Даже тогда, когда они обсуждают и решают свои собственные дела, они обсуждают и решают те самые проблемы, над которыми бились русские люди в ту замечательную пору шестидесятых годов, значение которых перелилось и за национальные границы» [14] Кирпотин В. Я. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. – М.: Сов. писатель, 1970. – С .7.
.
Читать дальше