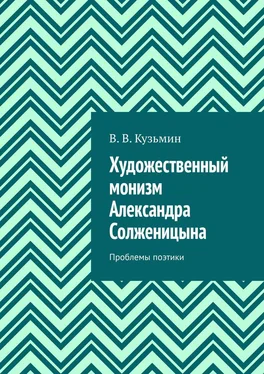Реализм как метод позднее других литературных направлений XX века откликнулся на европейский тоталитаризм. Реальная литература в основе своей проповедует культ очевидности. Солженицын увидел свое предназначение в том, чтобы рассказать народу «правду», став историком эпохи ГУЛАГа.
«Отличительная черта исторической истины – ее очевидность, она не нуждается ни в ревизии, ни в интерпретациях, достаточно описать все, как было, и истина восторжествует» 24 24 Орловская-Бальзамо Е. Ипполит Тен и Александр Солженицын: Точки соприкосновения // Новое литературное обозрение. – 1995. – №13. – С. 340.
. Эта формулировка Орловской-Бальзамо очень удачно характеризует взгляды Солженицына на историческую истину и на факт действительности вообще. Особая одаренность Солженицына запоминать события и работать с документом, воспринимая их «истинный» – вневременной – смысл, есть по сути способность предвидеть будущее.
Неоднократно в критике возникала мысль и о специфическом использовании Солженицыным такого изобразительно-выразительного средства, как деталь. Это отмечали Артамонов, Лукач, Белль и другие, не прибегая к непосредственному анализу текста, но соглашаясь в том, что именно деталью Солженицын достигает полную иллюзию достоверности. Белль говорит о детали как о «…признаке нового реализма, который не позволит себя взнуздать, который человечен, а потому способен изображать и ответработников неодноцветно» 25 25 Белль Г. Боль, гнев и спокойствие. О сборнике рассказов А. Солженицына «Для пользы дела» // Иностранная литература. – 1989. – №8. – С. 234.
. Лукач называет основным свойством этой детали «альтернативность».
Таковы основные, на наш взгляд, моменты в понимании особенностей поэтики малой прозы Солженицына в существующих критических и литературоведческих работах.
В то же время до сих пор не предпринималось попытки системного исследования поэтики рассказов Солженицына, многофункционального комплекса изобразительно-выразительных приемов и средств, при помощи которых возникает художественная целостность.
Глава вторая. Позиция автора во взаимоотношениях с героем
1. Художественный монизм Солженицына
В литературном контексте 1960-х годов понятие автор по отношению к Солженицыну наполняется первоначальным смыслом. «Augeo – действие, присущее в первую очередь богам как источникам космической инициативы… Он [автор] способен нечто „учинить“ и „учредить“…» 26 26 Аверинцев С. С. Авторство и авторитет // Историческая поэтика. – М., 1994. – С. 105.
В восприятии Солженицына с тех пор присутствует существенный элемент личной «харизмы»: он – первый, кто художественно сказал правду о советском лагере.
Деятельность русских писателей непременно выходила за пределы собственно художественного творчества. В интервью телекомпании BВС Солженицын говорил: «По традиции русской литературы почти невозможно уединиться и не замечать того, что происходит… Мы не можем отдаться художественному творчеству, каждую минуту не касаясь общественных, социальных, политических проблем» 27 27 Солженицын А. Собрание сочинений. – Париж, 1983. – Т. 10. – С. 510 (далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страниц).
.
Книги Солженицына стали значительными событиями общественно-политической жизни. И, по мнению зарубежных исследователей, Солженицын – «писатель, вышедший за пределы литературы» 28 28 Темпест Р. Указ. соч. – С. 181.
.
Художественно и идеологически обоснованные идеи, проповедуемые героями его произведений, оказали влияние на взгляды нескольких поколений читателей. Солженицын смог удовлетворительно ответить им на многие вопросы, связанные прежде всего с проблемами исторической правды. Стремление Солженицына к выработке единых принципов осмысления истории общества и отдельной личности шло в русле «развития монистического взгляда на историю», утвердившегося в исторической науке XX века.
«…Наиболее последовательные и глубокие мыслители (от В. Соловьева до М. Горького – В. К.) всегда склонялись к монизму, т. е. объяснению явлений с помощью какого-нибудь одного основного принципа… Всякий последовательный идеалист монист в такой же степени, как и всякий последовательный материалист», – писал Г. Плеханов 29 29 Плеханов Г. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. – М., 1938. – С. 5—6.
. И «именно то монистическое мировоззрение , которое пугает Бродского в византийской православной традиции, лежит в основе историософской концепции Солженицына» 30 30 Назаров М. Два кредо… // Вестник РСХД. – Париж, 1988. – №154. – С. 187.
.
Читать дальше