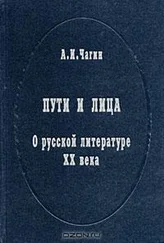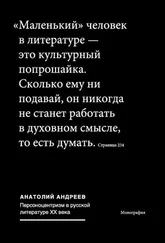Читать «Зияющие высоты» скучно, во всяком случае сегодня, потому что это пример текста, содержащего автоописание: этот текст скучен, как скучна жизнь, и он построен примерно как жизнь Ибанска – с бесконечным повторением одних и тех же терминов, с философствованием на пустом месте. Жизнь Ибанска тотально идеологизирована. Основа мировоззрения всего Ибанска в том, что в Ибанске есть уникальная народная душа, свойства которой несравненны, и весь остальной мир никогда до неё недотянет. Сам же Ибанск окружён врагами, враждебным внешним миром, который намеревается как-то исхитить его духовность. Это поразительная вещь, потому что Зиновьев в 1976 году угадал главные интенции России будущей. Но ведь в том-то всё и дело, что между идеологией, условно, коммунистической и идеологией нынешней принципиальной границы нет: советский интернационализм, советский модернизм – всё это давным-давно отброшено; эпоха, которую описывает Зиновьев, – это эпоха полного гниения. И Зиновьев прав, когда говорит, что Запад тоже не выход, потому что Запад – это общество тотальной манипуляции, тотального управления. И в этом смысле между коммунизмом и Западом восьмидесятых годов принципиальной разницы он не усматривает. С точки зрения потребления она, разумеется, есть, но с точки зрения мышления и с точки зрения человека и его деградации – особой разницы нет, и, может быть, как ни ужасно, Зиновьев в этом отчасти прав: с внешней стороны что тамошняя демагогия, что местная, что тамошнее самодовольство, что местное, на вкус Зиновьева, это всё было достаточно одинаково.
Своеобразие зиновьевского жанра и самого этого текста связано прежде всего с тем, что Зиновьев принадлежал к так называемому методологическому кружку, куда входили Щедровицкий, Карл Кантор и ещё многие замечательные люди. Бывал там достаточно регулярно и совсем молодой тогда в будущем художник, а тогда просто сын философа Карла Кантора Максим, который запечатлел этот кружок в замечательной карикатуре «Интеллигенция читает между строк», где на первом плане выведен очень узнаваемый Мамардашвили, просто один в один, со знаменитой трубкой. Этот кружок и вообще вся московская методология, московская философская школа – это была попытка легального существования в условиях абсолютного идеологического террора, и у них это, странное дело, получалось. Это была попытка выживания философии и социологии при так называемом развитом социализме. Поэтому, разумеется, в их плетении словес, в их легальных публикациях, в их дискуссиях было огромное количество не скажу зашифрованности, но какой-то формальной демагогии. Очень трудно сейчас там разглядеть подлинные мысли, потому что это всё было тоже, как ни ужасно, имитацией. Но не надо забывать, что в Москве семидесятых годов, Зиновьев это показывает, кипела огромная, сложная, философская жизнь, то, чего совершенно нет сегодня. И в этой философской жизни были религиозные кружки типа южинского кружка Мамлеева, откуда вышли Дугин и Джемаль, была методологическая школа Щедровицкого, был кружок последователей Даниила Андреева, был огромный слой мистического, тайного православия, жёсткую сатиру на который описал Владимир Кормер в своём романе «Наследство», – был круг, в котором подпольная литература, тоже очень жестоко изображённая у Зиновьева, пыталась имитировать свободу. Свободы никакой, разумеется, не было, в подполье свободы не бывает, но была какая-то честная, по крайней мере, им так казалось, попытка выжить вне продажи, вне прямого сотрудничества с режимом. И вот атмосфера, переданная в «Зияющих высотах», – это, с одной стороны, атмосфера абсурда и всеобщего вранья, имитации, а с другой – это атмосфера страшно напряжённой, хотя и очень искажённой, всё-таки интеллектуальной жизни. Если у Стругацких в институте все занимаются заполнением бессмысленных бумаг, то у Зиновьева все герои мыслят, пытаясь придать философское обоснование пустоте собственной жизни. Они громоздят какие-то многоэтажные конструкции, особенно Шизофреник, автор трактатов, продвинулся по этой части, только чтобы как-то обосновать своё бездействие, свою глупость.
В стране никто не работает. В Ибанске есть наказание в виде той же гауптвахты, или «губы», там есть собрание, там есть театр, но там совершенно нет производительного труда. Это город, абсолютно утративший смысл собственного существования, абсолютно утративший контакт с собственным прошлым и не видящий своего будущего. Это пространство всеобщей демагогии, тухлой, бессмысленной болтовни и праздности у Зиновьева описано с колоссальной мерой ненависти и желчи.
Читать дальше