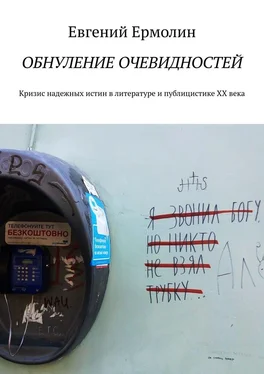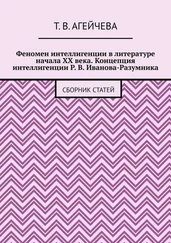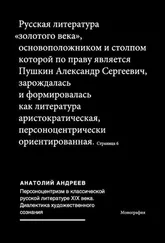Ситуация такого полилога и обусловленного им культурного плюрализма – самое новое, еще небывалое, незнаемое время ХХ века. Культура эпохи как будто двинулась сразу во все стороны.
Есть консервативный путь: возвращение к старым, испытанным истинам, качество которых, однако, весьма различно. Реакционный путь: дистилляция одной из старых истин вне традиционного контекста. Эсхатология: предчувствие, предощущение конца и, может быть, явления Истины. Декаданс: абсолютизация личной истины текущего момента, настроения или впечатления… И если бы только эти пути! Многое в культуре сплелось и смешалось, что дает впечатление хаоса и бестолковости, царящих в мире Запада в XX веке, но, в сущности, отражает реальный процесс поисков духовного обетованья, спасения из тупиков Нововременья.
О неблагополучии свидетельствует весь опыт искусства рубежа XIX – XX веков.
Художник исходил из убеждения, что где-то есть некоторая бытийная истина – либо в посюстороннем, земном мире, либо вне его. В традиционном христианском понимании подлинно быть – означало быть с Богом и благодаря Богу. Искусство как способ быть и существовало как орган выражения этого бытия художника с Богом. Причем орган, специально для этого и предназначенный: природа искусства в раскрытии человека в его отношении к Богу и к миру; искусство – способ выявления божественного Логоса в триединстве истины, добра и красоты. Неизменно и ежемоментно актуальным является в искусстве именно вечное – именно оно промеряет и испытывает реальность дольнего мира.
Обезбоженная человечность Нового времени оказалась неспособна к тому, чтобы обеспечить надежность бытия и гарантировать достоверность человеческого знания. Едва ли не все истины стали выглядеть сомнительными и недостоверными, едва ли не все идеалы обесценились, едва ли не все инструменты познания были отброшены за неадекватностью. И в конце концов стало казаться, что у художника вообще ничего не осталось в запасе, что реальность ускользнула от него и вовсе исчезла.
Согласно такой логике, традиционный реализм, отражающий жизнь, анализирующий ее, стал казаться наивным и грубым. Его познавательные ресурсы оценивались теперь крайне низко: ведь искусство и вообще было готово отказаться от познания жизни ввиду отсутствия надежных критериев подлинности. Какое уж тут познание, если невозможно определить, где в мире и в человеке настоящее, а где – подделка, и где грань, отделяющая одно от другого. Окружающая реальность недостоверна и /или неокончательна.
Но если так, то чем же тогда заняться художнику?
Последняя, крайне радикальная попытка найти место человеку в ненадежном, недостоверном, очень недоброкачественном мире: формируется парадоксальная, пограничная культурная парадигма, господствующая на авансцене ХХ века, модернизм .
Из нашего далека поражает, насколько ярко в разных версиях модернизма выразилось невероятное, почти небывалое напряжение человеческих сил, цветение личностного бытия; и как изживало себя Новое время, как самые грандиозные амбиции личности влекли за собой ее упразднение в качестве культурной единицы.
С одной стороны, в своем самоутверждении человек здесь действительно достигает полной и окончательной степени самодостаточности. И это действительно весьма оригинальный культурный выбор. Утрата культурной обеспеченности стала предпосылкой и оправданием самой радикальной практики – конструирования новой жизни, не считающегося ни с какими обычаями и традициями, обыденными нормами и стабильными ценностями. Конструктор-модернист является сочинителем новой жизни и новой истины – своего рода художником, на каком бы поприще он ни реализовал свои таланты. От подражания жизни, от учета ее собственных глубинных интересов происходит переход к созданию ее заново – будто на пустом месте, с чистого листа.
Так на культурной сцене появляется человекобожеский и богоборческий модернизм, адепты и практики которого уверены, что из остаточного шлака и мусора обесценившейся допотопной реальности можно и нужно сотворить иную, рукотворную гармонию, создать небывалую и покуда отсутствующую истину. Один из ранних вариантов такого модернизма – теоретический проект российского богостроительства, творцы которого вербализовали, договорили то, чем душевно вдохновлялась маргинальная революционная кружковщина.
Были и религиозные версии модернизма: скажем, строительство тотальных религиозных утопий. Таков русский религиозно-философский синтез рубежа XIX – XX веков, предначертанный Владимиром Соловьевым и его продолжателями. Этот идеальный проект предполагал всеобщее преображение бытия и реализацию метаисторического замысла Богочеловечества творческим подвигом человека. Религиозный модернизм сам по себе, одним фактом своего существования являл антитезу ведущей тенденции Нового времени, по-лапласовски упразднившей Бога «за ненадобностью». Но уже в позднем опыте Соловьева историческая перспектива предстала в таком виде, что о творческих перспективах человечества и человека говорить стало почти уже невозможно. Прогресс к Богочеловечеству сменился на апокалиптику.
Читать дальше