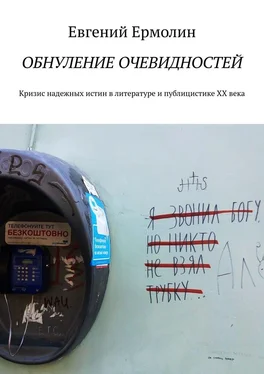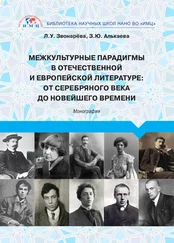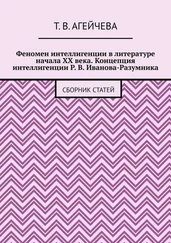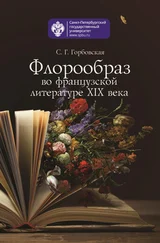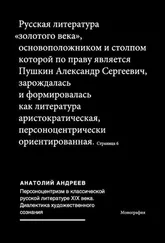В литературе советской эпохи шла борьба с идеологическими фикциями и антигуманной практикой коммуноидной цивилизации – борьба, слова живого, мотивированного великой традицией и пережитого экзистенциально, – и слова мертвого, идеологически препарированного, но претендовавшего на монопольную всемирно-историческую истинность.
Слово живое в конечном счете перевесило на весах истории, и эту победу нельзя недооценивать. Сама по себе она не была пирровой; слишком лукавым, несправедливо приблизительным смотрится зиновьевское присловье «целились в коммунизм, а попали в Россию». Но путник, увы, малость запоздал – и пришел в такой момент, когда мировые стихии творили уже совсем иную реальность.
Выпав на семьдесят лет из истории, нельзя надеяться войти обратно в тот же паз. И если вы пытаетесь вернуть изнасилованному идеологией слову первородное достоинство, то рискуете прослыть утопистом хуже Солженицына.
Экстаз свободного слова в конце 80-х – начале 90-х годов теперь, как присмотришься, кажется наивным и прекраснодушным. Бредилось, что это слово (о, «возвращенная литература», ах, «Огонек» и «Московские новости»! ) наконец не просто создаст автономную ауру подпольных смыслов, но распространится в атмосферу и переменит общество и власть. Это момент реанимации слова в его сверхзначимости.
Но высокие ожидания оборачивались глубокими разочарованиями. Жизнь сверсталась иначе. А в 90-е нам пришлось пережить драматический момент в литературном движении: момент осознания непоправимого кризиса самодостаточных истин и самодовлеющих слов. В России, на локальной площадке, не особенно даже интересной большому миру, полемически развернулась в самом конце ХХ века перипетия русского литературно-медийного постмодернизма, которую можно, пожалуй, считать особенно наглядным симптомом гибели авторитетного слова.
Длилась она совсем недолго, но имела последствия. В тот момент нечто могло ощущаться как богемный вывих, как причуда доморощенных гениев, услышавших звон с чужих колоколен и принявших его на свой счет. Однако в новом веке то, что было маргинальной практикой художника, пошло в тираж и заполнило собой пространство социальности, пирует на его авансцене. Где ни копни теперь, найдешь постмодерниста.
Слово за минувшие 25 лет подверглось сильнейшей критической релятивизации. Парадокс, что победило в конце концов вовсе не идеационное слово, а слово (снова обратимся к терминологии Питирима Сорокина) сенситивно-ситуативное (и лишь отчасти идеалистическое); оно и отозвалось жизнью, какая влачится днями.
Я был участником в этом драйве. Я же и подопытный кролик этой эпохальной инверсии, иронический протагонист. Конвульсии литературного модернизма судорогой прошли по моей судьбе. Конечно, не все было понятно сразу. Но многое уяснилось мало-помалу. То, что было драмой, стало комедией (чеховнаш!); но не всегда. В книге много патетических выражений, которые когда-то имели актуальное значение, а теперь приобрели характер исторического свидетельства.
С другой стороны, эту книгу следует понимать как монографическое научное исследование, вписывающееся в контекст моих представлений о современной научности, посвященное литературе (в основном прозе) последних десятилетий ХХ века (и самого края нашего столетия) и имеющее предметом пресловутый литературный процесс, воображаемый как смена волн, набегавших одна за другой на берег, который тем временем терял – и потерял! – определенность своей линии.
Основа книги – литературно-критические статьи, некогда опубликованные в толстых журналах «Дружба народов», «Знамя», «Континент», «Нева», «Новый мир», «Октябрь» и в других изданиях (далее это без нужды специально не оговаривается; иногда тексты датируются). Кое-что написано давно или недавно, но по разным причинам никогда не было опубликовано и представлено здесь впервые.
Книга является логическим продолжением и развитием тех рассуждений, которые можно найти в предшествующих ей «Медиумах безвременья» (там изложена моя концепция русского трансавангарда), «Последних классиках» (о часовых великой русской литературной традиции в испепеленной Трое), «Мультиверсе» (с подробным описанием того, как литература становится сегодня литературностью, а поэзия, к примеру, – поэзо) и «Экзистансе и мультиавторстве» (о феномене литературного блогинга). Там содержится также и обширный материал по теме этого исследования.
Читать дальше