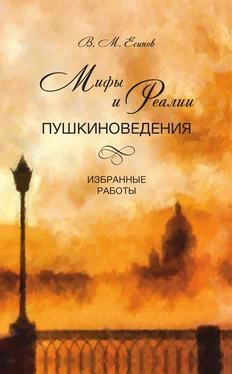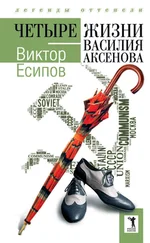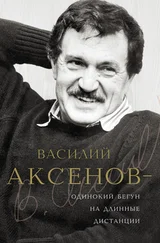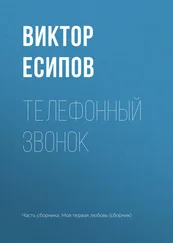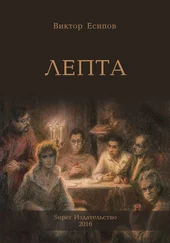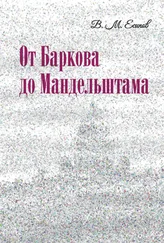Запутывая и без того непростую ситуацию, Цявловский стремился создать впечатление (или уговорить самого себя), что речь идет о стихах, упомянутых Погодиным в письме к Вяземскому. Но для такого предположения, даже если бы оно было им ясно заявлено, нет, как мы уже показали, никаких оснований.
Таким образом, «свидетельства шести лиц», скоропалительно упомянутых исследователем, полученные к тому же через десятилетия после смерти поэта, не имеют прямого отношения к сообщению Погодина о «Пророке», содержащемуся в его письме от 29 марта 1837 года. Да и сами эти свидетельства порой совершенно явно противоречат друг другу, что мы рассмотрим чуть позже.
И вот что еще интересно отметить. При цитировании письма Погодина от 11 марта 1837 года был усечен за ненадобностью следующий текст:
«Вот вам еще стихотворение («Герой». – В. Е. ), которое Пушкин прислал мне в 1830 году из нижегородской деревни, во время холеры 146 146 См. письмо Пушкина из Болдина к Погодину от начала ноября 1830 года.
. Кажется, никто не знает, что оно принадлежит ему. Судя по некоторым обстоятельствам, да и по словам вашим в письме к Д. В. Давыдову, очень кстати перепечатать его теперь в ”Современнике“ или, если 1-я книжка уже выходит, – в ”Литературных Прибавлениях“. В этом стихотворении самая тонкая и великая похвала нашему славному Царю. Клеветники увидят, какие чувства питал к нему Пушкин , не хотевший, однако ж, продираться со льстецами» (курсив наш. – В. Е. ) 147 147 Пушкин А . С . Сочинения и письма / Под ред. П. О. Морозова. Т. II. СПб., 1903. С. 497–498.
.
Трудно поверить, чтобы в том же письме к Вяземскому Погодин мог иметь в виду какие-то противоправительственные стихи Пушкина.
Итак, подведем итоги. Загадочное сообщение Погодина о «Пророке» является одиночным свидетельством, никакими другими свидетельствами или фактами, подтверждающими его сообщение, мы не располагаем. Для включения этого сообщения Погодина в «Летопись жизни и творчества Пушкина» в качестве достоверного факта биографии поэта не было необходимых оснований.
«Восстань, восстань, пророк России…»
В 1948 году вышел том III Большого академического собрания сочинений Пушкина под общей редакцией Цявловского, куда впервые в истории отечественной пушкинистики было включено уже упоминавшееся сомнительное в художественном отношении четверостишие с его же конъектурой в 4-м стихе:
Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы облекись,
Иди, и с вервием на выи
К у.<���бийце> г.<���нусному> явись.
Текст этот, якобы отражающий реакцию Пушкина на казнь декабристов, получил распространение с 1866 года (почти через 30 лет после гибели поэта) и сопровождался легендой о том, что Пушкин привез его из Михайловского «в кармане сюртука» на аудиенцию к царю, состоявшуюся 8 сентября 1826 года, с тем, чтобы вручить его своему могущественному собеседнику в случае неблагоприятного исхода разговора.
Этой теме посвящен предыдущий раздел настоящей главы «К убийце гнусному явись…», где решительно отвергается сама возможность принадлежности приведенного выше текста Пушкину и ставится вопрос о неправомерности его включения в собрание сочинений поэта.
Здесь мы приведем лишь некоторые дополнительные соображения по затронутому вопросу.
Для обоснования достоверности упомянутой нами легенды Цявловский сослался на воспоминания тех же шести современников поэта (универсальный прием!), которые он, не совсем обоснованно, пытался использовать в уже рассмотренном нами сюжете с письмом Погодина от 29 марта 1837 года, а именно: С. А. Соболевского, А. В. Веневитинова, С. П. Шевырева, М. П. Погодина, А. С. Хомякова и П. В. Нащокина. Все они, как отметил Цявловский, были «в тесном общении с поэтом в Москве осенью и зимой 1826 года» 148 148 Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым в 1851–1860 годах. С. 94.
.
Ссылка на них в этой связи более уместна, чем в предыдущем случае. Но и здесь не удалось избежать ряда неточностей.
Во-первых, «о тесном общении»: Погодин в первые дни пребывания Пушкина в Москве осенью 1826 года лишь мечтал о том, чтобы с ним познакомиться; едва только познакомились с Пушкиным в те же дни Шевырев и Хомяков; Нащокин в тот приезд Пушкина в Москву с ним вообще не встречался и потому не мог находиться с ним ни в каком общении.
Во-вторых, о самих свидетельствах: что касается Веневитинова, то в 1865 и в 1880 годах в «Русском Архиве» и «Русской Старине» публиковались его воспоминания, где нет ни слова об интересующем нас тексте, – свидетельство, которое связано с его именем, на самом деле принадлежит А. П. Пятковскому, пересказавшему в 1880 году в «Русской Старине» то, что он будто бы слышал когда-то от покойного к тому времени Веневитинова; Погодин и Хомяков, вопреки заверениям исследователя, никаких воспоминаний по поводу четверостишия не оставили: они только сообщили Бартеневу его текст. На воспоминаниях Нащокина мы подробно останавливались в предыдущем разделе настоящей главы 149 149 «К убийце гнусному явись…».
.
Читать дальше