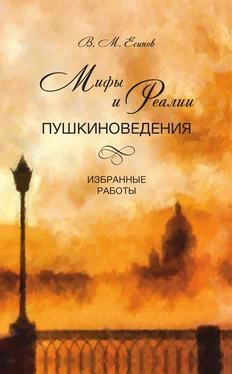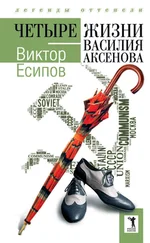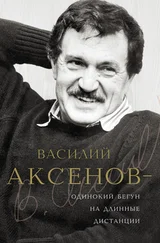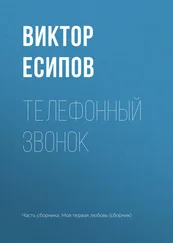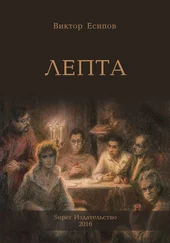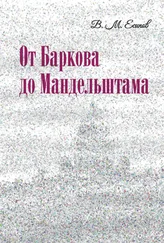Не беремся судить о том, что означает последнее обстоятельство, но ясно, что точности ради, заключительная фраза биографической справки должна была бы выглядеть следующим образом: «…в тетради, рядом со стихотворением, Пушкин рисует профили Марии, Екатерины и Елены Раевских» 64 64 Щеголев П . Е . Указ. изд. С. 159.
.
Попытка же автора рассматриваемой биографической справки обосновать свою точку зрения обращением к «миру романтических чувств» поэта, «пережитых ранее», как и к его «душевному состоянию» в момент написания стихотворения напоминает более беллетристику (впрочем, весьма талантливую), нежели научную аргументацию.
Статья Т. Г. Цявловской 1966 года, на которую также ссылается В. И. Доброхотов, выдержана местами в духе массовых изданий советского времени и тоже содержит известную долю беллетристики. В ней нет фактических доказательств того, что стихотворение Пушкина обращено не к невесте поэта, а к М. Н. Волконской. Спору нет, М. Н. Волконская действительно является замечательной русской женщиной, личностью яркой даже в окружении других выдающихся современниц Пушкина, вместе с тем в статье Т. Г. Цявловской ощутима тенденция к ее упрощенно-идеализированному изображению по сравнению, например, с представлением Щеголева, который в своем известном исследовании, уже не раз помянутом нами, отмечал следующее: «…представление о Марии Раевской, как о женщине великого самоотвержения, преданности и долга. Но еще очень спорный вопрос, соответствует ли действительности обычное представление. Ведь Мария Раевская в сущности нам неизвестна, мы знаем только княгиню Волконскую, а образ Волконской в нашем воображении создан не непосредственным знакомством и изучением объективных данных, а в известной мере мелодраматическим изображением в поэме Некрасова» 65 65 Там же. С. 139.
.
О сложности ее духовного облика писал и В. В. Вересаев в биографическом очерке о Волконской, написанном за тридцать лет до Цявловской 66 66 Вересаев В . В . Спутники Пушкина: В 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 279–286. Он, в частности, не обошел молчанием семейную драму Волконских, заключавшуюся в том, что Мария Николаевна, по-видимому, никогда не любила мужа и поехала за ним в Сибирь исключительно из идейных соображений. Однако их семейная жизнь оказалась безрадостной. При этом Вересаев приводит свидетельство Якушкина (сына декабриста): «…как бы то ни было, она была одной из первых, приехавших в Сибирь разделить участь мужей, сосланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, не большой, если есть сильная привязанность, но почти непонятный, ежели этой привязанности нет. Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про ее жизнь в Сибири. Говорят, что даже сын и дочь ее – дети не Волконского». Вересаев поясняет, что сын Михаил рожден ею от декабриста Поджио, а дочь, «знаменитая красавица Нелли», – от И. И. Пущина. Достаточно критически прокомментировал Вересаев слишком театрализованный, по его мнению, эпизод встречи М. Н. Волконской с мужем по прибытии в Сибирь, описанный в известной поэме Некрасова.
.
Из нашего сегодняшнего далека вызывает вопросы и подзаголовок статьи: «(Новые материалы)». Трудно понять, чем он мотивирован, если учесть, что за десять лет до нее в авторитетнейшем пушкинском издании была опубликована статья М. П. Султан-Шах (на этом мы остановимся позднее), где впервые были опубликованы фрагменты писем Волконской, на которые ссылалась Цявловская, отметив, правда, что приоритет в их публикации принадлежит указанному нами автору.
Для полноты картины приводим полные названия двух статей: «М. Н. Волконская и Пушкин (Новые материалы)» – Т. Г. Цявловская, 1966; «М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830– 1832 годов» – М. П. Султан-Шах, 1956.
Что же касается филологического содержания статьи, то здесь нельзя не отметить ряд неточностей, допущенных автором, вероятнее всего, из-за чрезмерной увлеченности предметом своего исследования:
1) параллель между Волконской и героиней «Полтавы» Марией Кочубей представляется недостаточно оправданной, потому что в отличие от Волконской, решавшей «мучительный вопрос» – отец или муж, Мария Кочубей решала вопрос существенно иного свойства – отец или любовник, причем в ситуации, когда отец и любовник смертельно враждуют между собой;
2) английская фраза «I love this sweet name» («Я люблю это нежное имя») обнаружена в черновиках «Посвящения» и вряд ли может быть распространена на всю поэму до тех пор, пока достоверно не доказано, что имя той, к кому обращено «Посвящение», – тоже Мария; напомним в связи с этим, что некоторые современники связывали «Посвящение» с А. А. Олениной 67 67 См. выше «Скажите мне, чей образ нежный…». Следует также учесть, что, как справедливо отметила Т. Г. Цявловская, имя Мария (вместо Матрена) дал дочери Кочубея еще до Пушкина Егор Аладьин в повести «Кочубей» («Невский альманах на 1828 год»).
.
Читать дальше