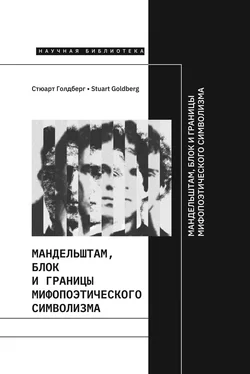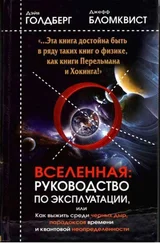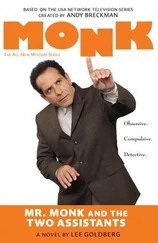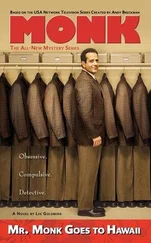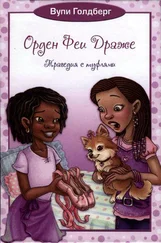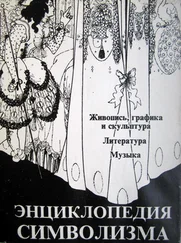Поэтический путь Блока особенно поражал современников явственной органичностью, впечатлением естественного произрастания из своих корней. Модест Гофман подчеркивал в 1908 г. следующий важный аспект блоковской поэзии: Блок
начинает уже с колебания и сомнения в существовании Мировой Души как Прекрасной Дамы.
Но страшно мне: изменишь облик Ты
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
О, как паду и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты.
И весь первый романтический период творчества Александра Блока (закончившийся «Снежной маскою» [1907]) характеризуется раскрытием этих строк 29.
В нарративном плане можно даже говорить о наличии в движении всеобъемлющего романтического сюжета, охватывающего прозрение, утрату и возвращение, обогащенное воспоминанием 30. Блок представлял эту внутреннюю историю пути поэта-символиста как гегелевскую триаду (см. его «О современном состоянии русского символизма» (1910)), Белый – в терминах незаслуженного, а значит, кощунственного прозрения неофита, ведущего к духовной смерти и воскресению (см. «Вместо предисловия» в кн. «Урна» (1909)) 31. Третьим главным мифопоэтическим поэтом-символистом и самым видным теоретиком этого движения был Вячеслав Иванов. Его ракурс кажется с самого начала всеобъемлющим и неизменным, словно он находится над драмой и вне ее 32. Однако на другом уровне ранние произведения Иванова наполняет тот же самый «миф». С одной стороны, это исторический масштаб отпадения человечества от непосредственного опыта божественного, необходимости найти способ вернуться к близости или единству в настоящем и чаяния универсальной соборности и возрожденной архаико-религиозной трагедии как конечной цели искусства в будущем 33. С другой стороны, это нескончаемая и вечно повторяющаяся драма пути отдельной души назад к божественному, как это изображено, например, в стихотворении «Менада» (1905) 34.
Желание подчинить все другие структуры мифопоэтическому сюжету выразительно засвидетельствовано в рецензии поэта Сергея Соловьева на «Все напевы» (1909) – позднюю книгу Брюсова, одного из главных, как уже было сказано, поэтов-символистов старшего поколения 35:
Царственная тишина осени стала над поэзией Брюсова:
И все спокойней, все покорней
Иду я в некий Вифлеем.
Этими словами заканчивает он книгу. Поэт идет к Вифлеему, неся в дар неведомому богу золото своей поэзии. Оно – чисто и нетленно: поэт претворил в золото слезы Орфея, тоскующего об утраченной Эвридике 36.
Сам Брюсов считал «Все напевы» концом эпохи в своей поэзии. Его стихотворение «Звезда» (1906) действительно написано в мифопоэтическом ключе и подытоживает ряд ключевых тем брюсовской поэзии, подчиняя их всеохватному нарративу мистического откровения, смиренного паломничества и ожидания. Но «Звезда» не завершает книги; это – одно из четырех стихотворений, которые в своей симметрии образуют финальный раздел «Всех напевов» – «Заключение». «Звезда» и не последнее из этих стихотворений, каждое из которых служит подытоживанием брюсовской поэзии с новой точки зрения, подчеркивает иную сторону его творчества. Соловьев, однако, склонен усматривать в мифопоэтическом сюжете телос брюсовской поэзии в целом.
Совсем не случайно, что Михаил Гаспаров, прекрасно знающий творчество Мандельштама и скептически относящийся к религиозному содержанию символистского искусства, ставит под сомнение мифический статус именно Дон Жуана и Кармен, этих архетипических сюжетных ядер, которые Мандельштам, основываясь на поэзии Блока, объявляет обретшими «гражданское равноправие» с мифом 37. Сам Мандельштам, как мы видим, выбирает слова осторожно, приписывая Блоку это грандиознейшее среди современников достижение. И все же он восприимчив не только к блоковскому мифотворчеству, но и к ивановским притязаниям на мифологическое мышление (в архаическом смысле слова) и также внедряет понятие современного мифотворчества в собственное творчество 38. В то же время Мандельштам избегает ошибок Иванова, который, несмотря на аутентичность своей архаики – он «ни на одну минуту <���…> не забывает себя, говорящего на варварском родном наречии», – «невероятно перегрузил свою поэзию византийско-эллинскими образами и мифами, чем значительно ее обесценил» (II, 343, 341).
Ощущение силы мифотворчества, по крайней мере в художественной сфере, является одной из глубочайших сторон влияния младших символистов на Мандельштама. В своей программной статье «Пушкин и Скрябин» (1916–1917?) он пишет о «мифе о забытом христианстве». Этот миф, созидательная сила которого заключена именно в его затмении истины (христианство забыто, что позволяет нам искать его заново), во многом является даром самих символистов. Их мучительные поиски свидетельствуют об их неспособности признать искупление. Мандельштамовская «Tristia» показывает, как этот миф может стать плодотворной концептуальной моделью, пронизывающей и организующей (в разной мере) отдельные стихотворения 39.
Читать дальше