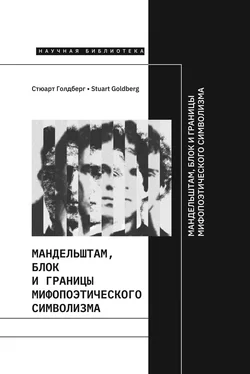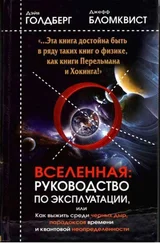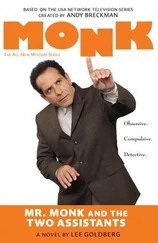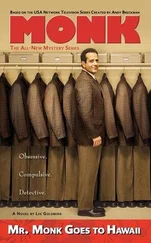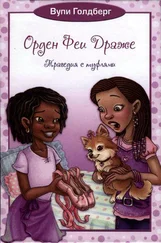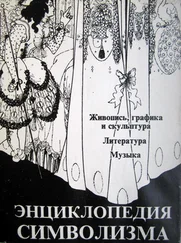Термин «мистическая презумпция» заимствован из: Аверинцев С. C. Страх как инициация: одна тематическая константа поэзии Мандельштама // Смерть и бессмертие поэта: Материалы международной научной конференции, посвященной 60-летию со дня гибели О. Мандельштама (Москва, 28–29 дек. 1998 г.). М.: РГГУ, 2001. С. 18.
В эссе Мандельштама эта традиция начинается с великого публициста Николая Новикова и «гражданского поэта» Александра Радищева, достигает апогея в Пушкине, декабристах («Пир во время чумы», «голубые, пуншевые огоньки») и Николае Некрасове, затухает в Афанасии Фете и Федоре Тютчеве (ср. их заболевания) и испытывает предсмертные конвульсии в символизме, первые представители которого – «воинственные молодые монахи» ( СС , II, 105) и евангельские абстракции которого пахнут дохлой рыбой. Бетеа написал недавно о Пушкине и Иосифе Бродском как о функциональном «обрамлении», начале и конце «понятия о романтической биографии» в русской поэзии ( Bethea D. M. Brodsky and Pushkin Revisited: The Dangers of the Sculpted Life // The Real Life of Pierre Delaland: Studies in Russian and Comparative Literature to Honor Alexander Dolinin. Stanford Slavic Studies, v. 33. Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 2007. Vol. 1. P. 101–102). Заметим, однако, что это понятие продолжает жить в творчестве Бориса Рыжего.
Из частной беседы c Дэвидом Бетеа (2001).
Это эссе, а по сути, и «Шум времени» в целом наполнены часто пробными прорывами границы, разделяющей литературу/теорию и жизнь. Приведем только два примера. Литература уподобляется «мирянину, разбуженному не вовремя, призванному, нет, лучше за волосья притянутому в свидетели-понятые на византийский суд истории», а жизнь ворвется «в самую тепличную, в самую выкипяченную русскую школу <���…>. Книжка „Весов“ под партой, а рядом шлак и стальные стружки с Обуховского завода <���…>» ( СС , II, 103, 86).
Слово «афиша», которое во времена Мандельштама, как и сейчас, означало «театральный плакат», до начала XIX в. имело другое значение – «брошюра с программой». Очевидно, что именно в этом устаревшем значении оно уместно используется здесь. См.: Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. М.: Флинта, 1998. С. 240.
Здесь поэт, казалось бы, не приемлет символистского синкретизма эпох, проявленного, скажем, в блоковском «На поле Куликовом» (1908). Статья Мандельштама «Слово и культура» (1921), в котором утверждается, что современные поэты «в священном исступлении <���…> говорят на языке всех времен, всех культур» ( СС , II, 227), демонстрирует возобновившееся влияние символистской теории, в частности – «Эмблематики смысла» (1909) Белого (см. об этом: Ronen O. An Approach to Mandel’štam. P. 134) и «Ты еси» (1907) Иванова.
Фрейдин пишет о двух антитетических силах, преобладающих в стихотворении: «аполлоническом „тяжелом покрывале“, скрывающем этот „иной мир“» и «дионисийском устранении всех границ». Таким образом, это стихотворение одновременно «элегически ностальгично и исполнено утраты» и «обильно и восстановительно» ( Freidin G. A Coat of Many Colors. P. 90–91). См. также: Жолковский А. К. Клавишные прогулки без подорожной: «Не сравнивай: живущий несравним…» // «Сохрани мою речь…». Вып. 3. Ч. 1 / Сост. О. Лекманов, П. Нерлер, М. Соколов, Ю. Фрейдин. М.: РГГУ, 2000. С. 177.
«Que ces vains ornements, que ces voiles me pesent» [«О, эти обручи! О, эти покрывала! / Как тяжелы они!» (пер. М. А. Донского)] ( Racine J. Oeuvres completes. I. Théâtre. Poésie. P.: Gallimard, 1999. P. 826. Отмечено в: Freidin G. A Coat of Many Colors. P. 90–91).
Отметим также иронию: лирическое «я» Мандельштама (якобы) не услышит стиха Федры как в силу его ярко изображенного безразличия в качестве зрителя в расиновском театре, так и по причине его исторической дистанцированности от самого этого театра.
Переходный глагол «волнуя» – это, конечно, парономазическая игра с подразумеваемым «волнуясь».
Freidin G. Osip Mandelstam: The Poetry of Time (1908–1916) // California Slavic Studies 11. Berkeley: University of California Press, 1980. P. 180.
Об этом стихотворении см., в частности: Эткинд Е. «Рассудочная пропасть»: О мандельштамовской «Федре» // Эткинд Е. Там, внутри: О русской поэзии XX века. Очерки. СПб.: Максима, 1997. С. 209–212; Terras V. The Black Sun: Orphic Imagery in the Poetry of Osip Mandelstam // Slavic and East European Journal. 2001. Vol. 45. № 1. P. 46–49.
В этом смысле инцест, который, согласно представлению Фрейдина о «Tristia» (см.: Freidin G. A Coat of Many Colors), служит фундаментальной, основополагающей парадигмой для мандельштамовской мифологии поэта, можно считать разновидностью перейденной (или не перейденной) границы.
Читать дальше