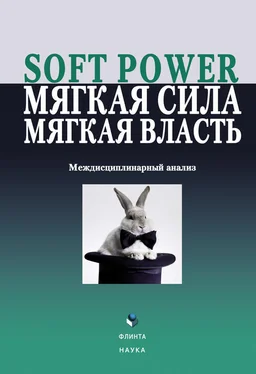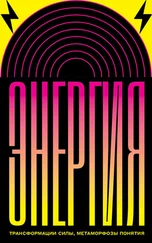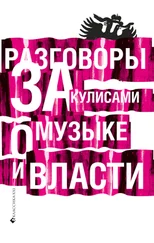Что касается правил речевого поведения, то, как указывали наши крупные ученые (Л. В. Щерба, М. М. Бахтин), реальной формой общения является диалог (монолог – форма редкая и обычно искусственная). Даже если говорящий (пишущий) не видит собеседников (телевидение, большая часть письменного общения), он говорит или пишет в расчете на чье-то восприятие. Речевое общение предполагает наличие двух (иногда больше) сторон, которые чаще всего социально неравны. Это неравенство в некоторых языках, как в японском, проявляется даже в грамматике: сказуемое каждого предложения имеет особую форму в зависимости от того, с кем и о ком говорят с точки зрения социальной иерархии [128]. Но везде есть хотя бы лексическое выражение этой иерархии: в русском языке дерзить может лишь низший высшему, а благосклонность может выражать только высший. Ясно, что мягкая сила в норме исходит от социально высшего лица.
Но и при отсутствии прямого указания на иерархию в лексике и грамматике она опять-таки проявляется в структуре диалога, об этом говорится в книге английского социолингвиста-неомарксиста Н. Ферклу [129]. Приводятся, казалось бы, разные ситуации: диалоги профессора со студентами, врача с пациентами, следователя с подследственными. Везде, однако, есть общее: отношения неравенства, а структура диалога однотипна. В каждой приведенной ситуации один из собеседников обладает властью. Только он контролирует ситуацию, определяет тематику диалога, задает вопросы, имеет право прерывать собеседников [130]. По сути, здесь мы видим мягкую силу на микроуровне. Одна из сторон навязывает другой поведение, а зачастую и взгляды.
В Японии, где сейчас популярны так называемые гендерные исследования, был однажды проведен такой опыт. Случайным образом были подобраны пары, состоявшие из студента и студентки, каждая пара должна была вести свободную беседу, скрыто записывавшуюся. Выяснилось, что везде ведущим в диалоге оказывался мужчина: он вел беседу, выбирал тему и устанавливал время перехода от одной темы к другой, свободно перебивал партнершу, что у нее получалось много реже [131]. Такой пример может многое сказать о реальном положении женщин в Японии.
Приведенные примеры свидетельствуют, что мягкая сила может действовать в разных сферах вплоть до бытовой, на макро– и микроуровне. Но, разумеется, особое значение она приобретает, когда ее источником становится государственная власть или власть крупного капитала. Ведущую роль здесь играют печатные и электронные средства массовой информации, а также публичные речи политиков. Государственные и частные СМИ в любой стране используют преимущества односторонней коммуникации. Читатель печатного издания, слушатель радио, зритель телепередачи не может (или может в очень ограниченных пределах) вмешаться в то, что им воспринимается, и должен принять или отвергнуть навязываемое. Автоматически он попадает в подчиненное положение. А дальше вступают в действие принципы мягкой силы.
Упомянутый выше Н. Ферклу занимался изучением установления классового господства языковыми средствами на примере выступлений (в том числе радио– и телевизионных) М. Тэтчер. В частности, отмечаются обилие высказываний в категорической модальности, значительное количество сочинительных связей, соединяющих как якобы равноценные слова, на деле различные по смыслу, вроде «я и народ». М. Тэтчер использовала и визуальные средства мягкой силы, с помощью одежды и прически создавая облик женщины из среднего класса [132].
Еще одним важным средством употребления мягкой силы в области языка является использование выгодных для ее источников номинаций. Одна из важнейших функций языка, о которой говорили крупнейшие лингвисты и философы языка (В. фон Гумбольдт, Э. Сепир и др.), заключается в членении мира. Многообразные элементы и явления человеку необходимо расчленить и охарактеризовать. Что-то мы называем сложным описательным образом, а что-то называем одним словом или устойчивым сочетанием слов (как говорят лингвисты, одной номинацией). И в последнем случае эта номинация закрепляет некоторое представление носителей языка о мире; то множество явлений, которое язык считает объединяемым в одной номинации, трактуется как единство, а их отличия от того, что называют иначе, расцениваются как существенные. Это важно всякому человеку. Но тут скрывается и возможность манипуляций как бессознательных, так и сознательных. Достаточно естественно проводить разграничения номинаций по признаку «наше – не наше»; различия в случае «не наших» могут игнорироваться и скрываться внутри единой номинации. В СССР в 1930-е годы существовало слово социал-фашисты , подразумевавшее, что различия между фашизмом и социал-демократией несущественны; дальнейшее развитие событий показало ошибочность такого взгляда, и от термина в итоге отказались.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу