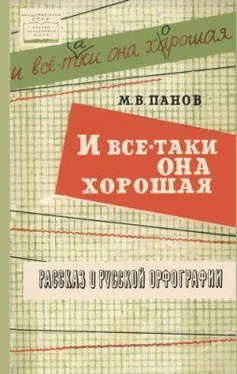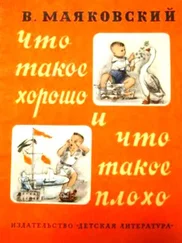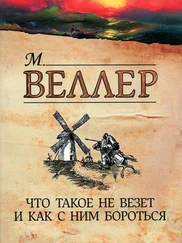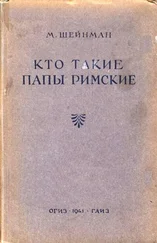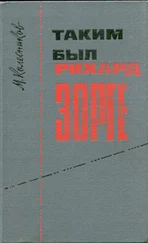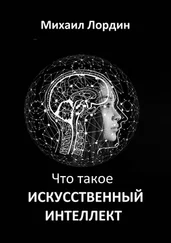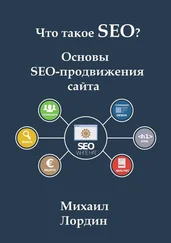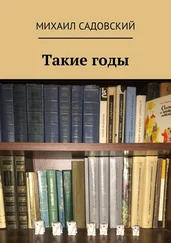Но пусть кто-нибудь, желая передать буквами слово растёкся, напишет: растюкся, или растёпся, или распёкся. Он сделает явный промах: все эти написания так, как он задумал, не читаются.
Выходит, что писать без правил надо тоже соблюдая правило. Правда, это правило, единственное, и притом нетрудное. Оно не стесняет свободу пишущего; выбор разных одежд для одного и того же слова остается большим. Слово расчётливость, например, можно изобразить 6336 способами (шестью тысячами тремястами тридцатью шестью), и все написания будут читаться одинаково. Как видите, выбор есть.
Теперь мы знаем, что значит писать без всякой орфографии. С таким багажом (не очень обременительным) можно отправляться в наш вымышленный город.
Называется он Какографополь. Многощумный, грохочущий, суетливый город, каких много. Как будто ничем не отличается от знакомых нам городов.
Разве только — вывесками. Почти на каждой — какой-нибудь рисунок; без рисунков почти и не видно. Написано: «ремонд Шлябб» — и нарисована шляпа с аккуратной заплатой (значит, только что из ремонта). Немного дальше — «Овасчи и фруккты». На рисунке репа, морковь, яблоки. Недалеко снова такая же вывеска: «О! выщчи ифругкты», и повторяется рисунок.
Вывески пестрят непритязательными изображениями товаров. Понятно почему: с рисунками проще; сразу видно, как прочесть вывеску.
Иной читатель, пожалуй, возмутится: зачем же так нелепо писать? Неужели не ясно, что и проще и понятнее «Ремонт шляп», чем какой-то «ремонд Шлябб» !
Кому проще? Для кого понятнее? Вы забыли, дорогой читатель, что это город без орфографии, это Какографополь. Здесь безразлично, как написать: Шлябб или шляп. Читается одинаково; ведь фамилия Крабб и слово крап (на игральных картах) в произношении не различаются.
Мы привыкли к написаниям овощи, шляп и только их считаем законными. А житель Какографополя все написания: шляп, Шляп, Шляб, Шлябб, шлябб, шльаб, шльапп, Шльапбп и многие-многие другие считает равноправными, ни к одному из них не привык, ни одному из них не отдает предпочтения. Вернее, он ко всему привык; привык, что каждое сочетание букв надо уметь прочесть, надо так изловчиться, чтобы получилось знакомое слово. И житель Какографополя справляется с этим сравнительно быстро и почти безошибочно [7] Впрочем, ошибки при чтении в Какографополе неизбежны, как бы ни был опытен чтец. В одном старом журнале, который коллекционировал всякие курьезы, приведена такая надпись на вывеске: «Рещик пакости и падереву. Игнатьев» («Словцо», 1899–1900, № 18, стр. 4). В Какографополе подобные вывески оказались бы вполне законными. Поэтому чтение там неизбежно превращается в ряд «проб и ошибок».
.
Вначале такой разнобой вывесок кажется забавным и даже нравится. Весело идти по городу и угадывать знакомое в незнакомом обличье. Каждое слово в какой-нибудь странной буквенной маске. У такого «остраннения» есть своя прелесть. Но скоро замаскированность каждого слова надоест и станет раздражать: «Зачем эта пестрота и непостоянство? К чему такая изобретательность попусту? Неужели нельзя было выбрать что-нибудь одно и всегда одинаково писать?».
В нашем Какографополе чуть не на каждом углу вывеска: «Фатограффия» или «Фоттография» (предоставляю читателю подумать, как еще могут писать слово фотография в этом городе). Очевидно, какографопольцы очень любят сниматься…
Не любят, а должны. На каждом документе в этом городе положено приклеивать фотокарточку. В любом свидетельстве, пропуске, справке, заявлении, аттестате, дипломе — фотографии и фотографии. Иногда сразу две: физиономия того, кто выдал, и того, кому выдано. А как же быть, если одно и то же лицо подписывается то Издебский, то Исъдепский, то Изъдебзкий, то Иссдепзкой … Он имеет право подписываться и так и этак (читаются все эти сочетания одинаково); он просто не привык, не умеет писать свою фамилию на один образец. В Какографополе все так делают. Спасает фотография: она позволяет установить идентичность лица, упомянутого в разных документах.
Служащие в учреждениях прошли особую школу: научились по фотографиям судить о тождественности или различии просителей. Иногда приходится производить небольшие физиономические измерения, но это редко. Обычно обходятся без этого.
Читать дальше