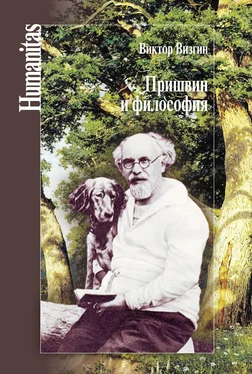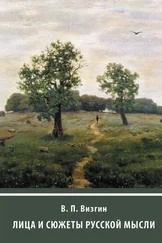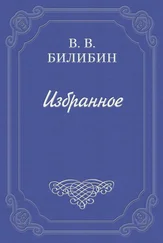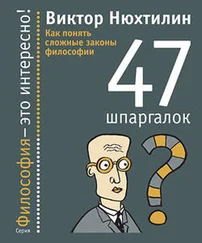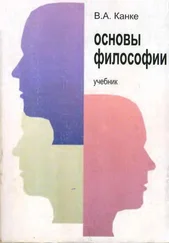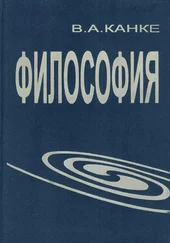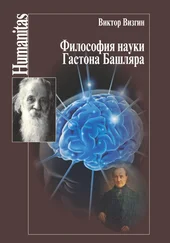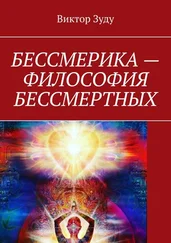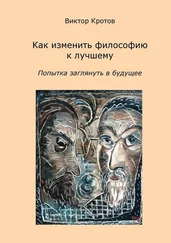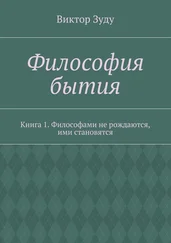Как же природа ласкает и нежит и как город ожесточает и огрубляет! (с. 245). А эта маргиналия была оставлена против запечатленного мгновения полного упоения Пришвина своей жизнью, смешавшейся радостно с жизнью природы, когда, пишет здесь он, «мне стало так, что лучше и быть не могло <���… >, пришла моя желанная минута и остановилась». А случилось это, как нередко с писателем бывало, в весеннем лесу, когда и глаза и уши «обласканы», и «все сошлось в одно», в одну чистейшую радость бытия. Гётевскому Фаусту в такое мгновение хочется остановить его. А русскому писателю этого не надо: ему дорого движение жизни, как в лирике Тагора: «Дыханье жизни вечное, ее игра живая…» Гёте здесь все равно вспоминается. И пусть даже не столько Фауст его трагедии, сколько восхищенный ослепительной красотой природы герой его лирики: Wie herrlich leichtet mir die Natur // Wie glänzt die Sonne, wie lächt die Flur!
В этой большой миниатюре Пришвин исследует лесной ручей как ключевое явление «неодетой весны». Мысль его движется в пространстве, структурированном такими полюсами, как «ручей / океан», а не «природа / город», как в процитированной только что маргиналии. Почему в своем отклике я не пошел за писателем? Тому есть простое объяснение: город меня невыносимо допекал, природа (деревня) столь же сильно манила к себе. Но ведь жить там, у ручья, я мог только в летний месяц каникул или отпуска. И поэтому ресентимент по отношению к «городу» чувствовался во всем, что я тогда писал. Пришвин же, напротив, жил деревенской лесной жизнью год за годом, почти постоянно. Город более-менее длительное время был у него в начале его писательского пути (Петербург) и в старости (Москва с квартирой в Лаврушинском, да и там он не засиживался).
Понимать – обнимать: пойма (с. 218). Исследование соединения в любви «физического касания» и «духовного понимания» Пришвин, как это ему свойственно, разворачивает на природной модели. Здесь ему таковой служит пойма . Он много раз наблюдает жизнь поймы и медитирует над этим явлением природы. Весной, «на разливе», вода понимает-обнимает землю «и от этого остается пойма» – поясняет свою мысль Пришвин. А когда вода спадает, то оставшийся ил делает ее исключительно плодородной, и она тогда покрывается чудесными цветами. Писатель в водах природы видит отражение человеческой жизни: понять-обнять свое другое и расцвести цветами жизни и цветами духовного творчества в своих детях – плотских и духовных.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
До публикации дневников Пришвина говорить о его философии без кавычек осмеливались немногие. В изданной на Западе и частично переведенной у нас семитомной истории русской литературы слово «философия» применительно к нему употреблено один-единственный раз и звучит в таком контексте: «Лувен, искатель жень-шеня < …> являет собой новый образ того слияния человечества с природой, которое составляет один из центральных мотивов пришвинской “философии”» ( Янович-Страда К. Михаил Пришвин // История русской литературы: ХХ век: Серебряный век. М., 1995. С. 318). Источниками творчества писателя критик считает только поэзию и науку, не признавая таковым философию. В самое последнее время молодые исследователи творчества писателя говорят о его «художественной философии». Вот такое определение его философии представляется в целом вполне адекватным.
Термин Г.Д. Гачева.
Пришвина В.Д. Путь к Слову.
Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 3. С. 715.
Amiel H.-F. Fragments d`un Journal intime. T. 1–2. Genève, 1901. О дневнике Амиеля и об отношении к нему Л.Н. Толстого см.: Визгин В.П. Путешествие через болезнь с Амиелем в руках // Контекст 1994, 1995. М., 1996. С. 180–194.
Пришвин М.М. Дневники 1940–1941. М., 2012. С. 259.
«К себе самому» обращенные.
Паскаль Б. Мысли. М., 1995. С. 184.
В 1884 г., в возрасте 24 лет, на последнем году своей жизни Мария Башкирцева записывает свою экзистенциальную ситуацию в дневнике, на который она сделала свою ставку на победу над забвением и смертью: «Начатки таланта и смертельная болезнь» (Journal de Marie Bashkirtseff. Tome second. Paris, 1888. P. 534). И вот ее итоговое самопознание: «Я не являюсь ни художником, ни скульптором, ни музыкантом, ни женщиной, ни дочерью, ни подругой. Все во мне служит предметом наблюдения, рефлексии и анализа» (Ibid. P. 578).
Читать дальше