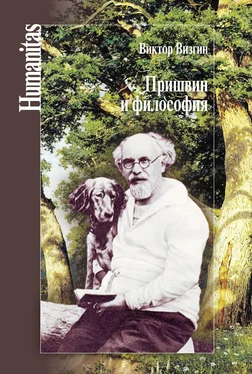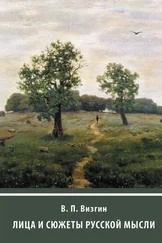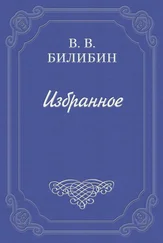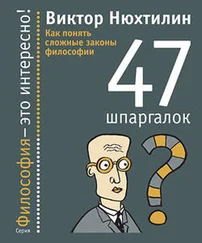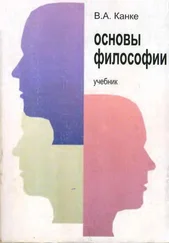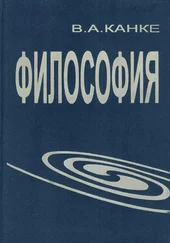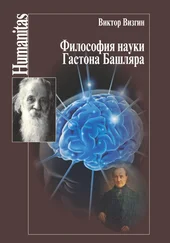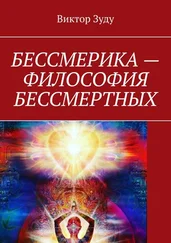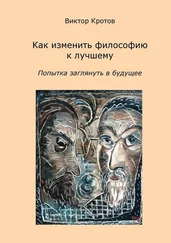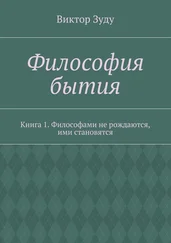«Стиль – это человек», – говорил Бюффон. Перифразируя французского натуралиста, скажем: дневник – это человек. Например, дневники Фредерика Амиеля или Марии Башкирцевой: в первом случае это воспитанный германским идеализмом швейцарский профессор, во втором – амбициозная, но не лишенная художественного дара, смертельно больная и уже только поэтому одинокая дочь богатого русского помещика [9] В 1884 г., в возрасте 24 лет, на последнем году своей жизни Мария Башкирцева записывает свою экзистенциальную ситуацию в дневнике, на который она сделала свою ставку на победу над забвением и смертью: «Начатки таланта и смертельная болезнь» (Journal de Marie Bashkirtseff. Tome second. Paris, 1888. P. 534). И вот ее итоговое самопознание: «Я не являюсь ни художником, ни скульптором, ни музыкантом, ни женщиной, ни дочерью, ни подругой. Все во мне служит предметом наблюдения, рефлексии и анализа» (Ibid. P. 578).
. Иными словами, скажи мне, каков твой дневник, и я скажу, кто ты. Дневник, точнее, мемуары Франклина, американца эпохи Просвещения, ни с каким другим дневником не спутаешь. Всем у него хозяйственно распоряжается уверенный в себе рассудок, взвешивающий все происходящее. Или вот дневники братьев Гонкур. Как разнятся брат с братом! Тандем тандемом, но дневник – личное предприятие. Рано умерший младший брат, Жюль, тонок и поэтичен, дневник под его пером летит, как арабский скакун. Читатель разгорячен его порывистым бегом. И каким занудным на его фоне выглядит Эдмонд, педантично описывающий свою художественную коллекцию, размещенную в новокупленном доме, превращенном в эстетское гнездышко! Скрупулезное перечисление его параметров и характеристик напоминает технический паспорт музея. Веет несвежим подвалом каталога, а не дивно летящим солнечным словом, на которое так легок был Жюль.
Но дневник Гонкуров дорог нам, пожалуй, еще больше, чем свидетельством об его авторах, переданной в нем атмосферой артистического Парижа, рассказом о политических событиях и, наконец, портретами целой плеяды французских писателей, поэтов, художников, ученых. Здесь мы видим и слышим Готье, Ренана, Золя, Флобера и многих других. Впрочем, где кончается Я пишущего дневник и начинается Я другого, его близких? Кто может утверждать, что границы в мире духа существуют с той же очевидностью, как и в случае физических тел и стран? Поэтому дневник часто не столько «окно» во «внутренний двор» его автора, сколько путевка в жизнь целой страны, эпохи, как это имеет место в случае Гонкуров.
Дневниковые записи – самый близкий жанр к тому явлению духа, которое мы называем сознанием . Возникает состояние (чего, если не сознания?), появляется мысль в своих еще нежных, родовых контурах. Пишущий дневник послушно фиксирует это событие. Думает ли он при этом о будущей публикации, о том, что о нем могут подумать другие люди, думает ли, наконец, о репутации тех, о ком он может написать что-то относительно предосудительное? Может об этом думать, но лучше ему не думать, а если и думать, то после, а теперь важно подхватить рождающуюся мысль в таком ее виде, в каком она самовольно явилась на свет, не дать ей упасть в небытие, поспешив выразить едва уловимое настроение, открытие, пусть значимое (пока, быть может) только для себя самого. Дневник, говорит Пришвин, пишется «по необходимости роста сознания и только для этого» [10] Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. М., 1957. С. 479.
. Сознание не может не расти, как и знание. Его рост есть его способ быть собой. Значит, дневник – машина для выращивания сознания? Если хотите, да, именно так. В идеале каждый день вы ее включаете, заводите, совершая работу роста сознания и мысли, их очищения, углубления и возвышения одновременно (путь вверх и путь вниз – один, как говорил Гермес Трисмегист).
Кто пишет дневник? Непростой вопрос. Ответ на него частично уже дан. Пишут дневники разные люди, различные по типам, по всему и во всем. Но что-то все-таки их всех объединяет. Что же? В чем их единство? Что роднит авторов дневников? Кажется, что какая-то нестандартно высокая порция одиночества – реального или мнимого, неважно. В дневнике одиночество втихомолку стремится покончить с собой, казалось бы, не выходя из себя. Одиночество – это такая даль в самом себе, что бежать хочется одновременно еще глубже в нее, в эту самую даль, и столь же – в одном порыве – от нее. Это предельно напряженное состояние души. Искомый друг автора дневник – дальний читатель, неведомый ему собеседник. Пишущий дневник так далеко забрасывает свои слова, что они летят, как ему кажется, к самому Богу. Так осознает свой дневник, например, Лев Толстой, чувствующий себя предстоящим перед Богом-Отцом, Воле которого он себя препоручает.
Читать дальше