Так вот оно, то Нечто, что уже прошло однажды по комнате и скрылось! Вот он, страшный спутник одержимого!
Некоторое время Видение, казалось, так же не замечало Редлоу, как и Редлоу его. Откуда-то издалека с улицы доносилась музыка, там пели рождественские гимны, и Редлоу, погруженный в раздумье, казалось, прислушивался. И Видение, кажется, тоже прислушивалось.
Наконец он заговорил – не шевелясь, не поднимая головы.
– Опять ты здесь! – сказал он.
– Опять здесь! – ответило Видение.
– Я вижу тебя в пламени, – сказал одержимый. – Я слышу тебя в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи.
Видение наклонило голову в знак согласия.
– Зачем ты приходишь, зачем преследуешь меня?
– Я прихожу, когда меня зовут, – ответил Призрак.
– Нет! Я не звал тебя! – воскликнул Ученый.
– Пусть не звал, – сказал Дух, – не все ли равно. Я здесь.
<���…>
– Взгляни на меня! – сказал Призрак. – Я тот, кто в юности был жалким бедняком, одиноким и всеми забытым, кто боролся и страдал, и вновь боролся и страдал, пока с великим трудом не добыл знание из недр, где оно было сокрыто, и не вытесал из него ступени, по которым могли подняться мои усталые ноги.
– Этот человек – я, – отозвался Ученый.
– Никто не помогал мне, – продолжало Видение. – Я не знал ни беззаветной материнской любви, ни мудрых отцовских советов. Когда я был еще ребенком, чужой занял место моего отца и вытеснил меня из сердца моей матери. Мои родители были из тех, что не слишком утруждают себя заботами и долг свой скоро почитают исполненным; из тех, кто, как птицы – птенцов, рано бросают своих детей на произвол судьбы, и если дети преуспели в жизни, приписывают себе все заслуги, а если нет – требуют сочувствия.
Видение умолкло; казалось, оно намеренно дразнит Редлоу, бросает ему вызов взглядом, и голосом, и улыбкой.
– Я – тот, – продолжало Видение, – кто, пробиваясь вверх, обрел друга. Я нашел его, завоевал его сердце, неразрывными узами привязал его к себе. Мы работали вместе, рука об руку. Всю любовь и доверие, которые в ранней юности мне некому было отдать и которых я прежде не умел выразить, я принес ему в дар.
– Не всю, – хрипло возразил Редлоу.
– Это правда, не всю, – согласилось Видение. – У меня была сестра.
– Была! – повторил одержимый и опустил голову на руки.
Видение с недоброй улыбкой придвинулось ближе, сложило руки на спинке кресла, оперлось на них подбородком и, заглядывая сверху в лицо Редлоу пронзительным взором, словно источавшим пламя, продолжало:
– Если я и знавал в своей жизни мгновенья, согретые теплом домашнего очага, тепло и свет исходили от нее. Какая она была юная и прекрасная, какое это было нежное, любящее сердце! Когда у меня впервые появилась своя жалкая крыша над головой, я взял ее к себе – и мое бедное жилище стало дворцом! Она вошла во мрак моей жизни и озарила ее сиянием. Она и сейчас предо мною!
– Только сейчас я видел ее в пламени камина. Я слышал ее в звуках музыки, во вздохах ветра, в мертвом безмолвии ночи, – отозвался Редлоу [25] Перевод Н. Галь.
.
Далее выясняется, что друг предал Редлоу, сестра умерла и эти воспоминания мучают ученого до сих пор. А дальше совсем гениальная штука – Призрак предлагает ученому избавиться от страшного прошлого, от страшной памяти: «Я предлагаю тебе забыть всю скорбь, страдания и обиды, какие ты знал в своей жизни!» После долгих колебаний Редлоу соглашается («Дар принят» – название первой главы повести), и Призрак злорадно говорит: «Прими от меня дар и неси его всем и всюду, куда бы ты ни пошел! Способность, с которой ты пожелал расстаться, не вернется к тебе – и отныне ты будешь убивать ее в каждом, к кому приблизишься».
Есть еще два гениальных британских текста, построенных на этом же принципе, – принципе вытесненного зла, когда все зло достается другому. Это «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона (1886) и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (1890–1891).
Повесть Стивенсона – лучшая готическая повесть, написанная в Англии. И замечательна стивенсоновская мысль, что Хайд не похож на Джекила. Джекил – спокойный, красивый шатен высокого роста, а Хайд – маленький блондин, который страшно суетлив, жутко подвижен, безумно энергичен, как всякое зло, и страшно силен физически. Помните, он забил тростью ни в чем не повинного старца, встретившегося ему на улице. Одним своим появлением он уже вызывает ужасную гадливость. И главная особенность пластики Хайда – он всегда словно ползет, словно крадется, он липнет к стене, прячется в тени стен. Кстати говоря, в России была блистательная экранизация этой повести (режиссер Александр Орлов), где Джекила и Хайда в противовес традиции кинематографической играли два разных актера. Хайда играл Александр Феклистов, а Джекила – Иннокентий Смоктуновский. И при всем том между ними было очень сильное сходство, потому что Смоктуновский обладал волшебной пластикой. В момент их взаимного преображения, как только Джекил преображается в Хайда, ему тут же становятся длинны штаны и длинны рукава, он становится страшным чучелом в огромной, не по размеру одежде. Это замечательно глубокое понимание образа.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
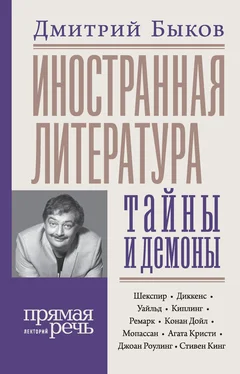


![Чарльз Буковски - Рассказы журнала [Иностранная литература]](/books/82412/charlz-bukovski-rasskazy-zhurnala-inostrannaya-lite-thumb.webp)
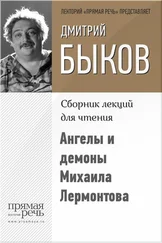


![Тед Хьюз - Новые стихи [Иностранная литература]](/books/218796/ted-hyuz-novye-stihi-inostrannaya-literatura-thumb.webp)
![Дмитрий Быков - Советская литература - мифы и соблазны [litres]](/books/398599/dmitrij-bykov-sovetskaya-literatura-mify-i-soblazn-thumb.webp)



