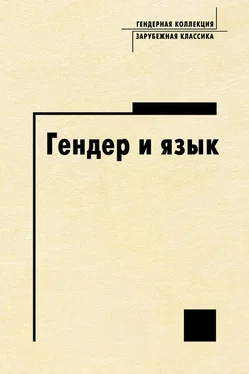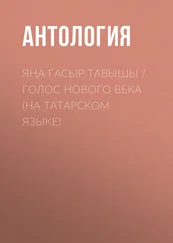Данный подход, разумеется, критиковали за то, что он, во-первых, исходит из западного и социально обусловленного стандарта поведения и, во-вторых, представляет так называемый «мужской язык» как норму, а «женский язык» – как отклонение от нормы. Такая негативная оценка «женских» форм коммуникации только поддерживает устаревшие структуры власти. «Риторика угнетенных» [62], используемая в том числе женской половиной человечества, – так звучал один из ранних контрдоводов – не только недостаточна (дефицитна), но и способна подорвать имидж говорящего. В противовес модели «дефицитности» Лакофф была разработана гипотеза дифференции (различий), согласно которой не следует негативно оценивать названные характеристики женского речевого поведения; его сильная сторона, в отличие от «конкурентной», действующей по законам мужчин коммуникации в общественном и профессиональном мире, состоит в сотрудничестве, дипломатии и облегчает демократический поиск решений в дискуссиях. Далее в развитие концепции внес вклад «тезис о двух культурах» Мальца и Боркер [Maltz, Borker 1982]; один из его вариантов предложен знаменитой Деборой Таннен. Представители этого направления сосредоточены не на «механизмах подавления», а прежде всего на анализе коммуникативных конфликтов между мужчинами и женщинами по аналогии с конфликтами в межкультурной коммуникации: проблемы во взаимопонимании между обоими полами имеют структуру, сходную с конфликтами между говорящими на двух разных, не всегда адекватно переводимых друг на друга языках. (С точки зрения онтогенеза это объясняется тем, что девочки и мальчики с раннего возраста овладевают различными речевыми практиками и формами общения. Различия в стиле речевого общения в соответствии с этим определяются не половой идентичностью, а историей взаимодействий, протекающей для каждого пола по-разному и постепенно формирующей идентичность.)
Критика тезиса о двух культурах (ср. [Gtinthner 1992]) состоит в том, что, в противоположность участникам межкультурной коммуникации, женщины и мужчины, принадлежащие к одной культуре, совершено определенно обладают общими знаниями о коммуникации. Представляется предвзятым и неестественным говорить о двух культурах. Кроме того, Таннен упрекали со всех сторон (хотя нельзя недооценивать ее замечания о различном коммуникативном воспитании детей) в том, что она воспроизводит традиционные клише женственности. (Сегодня утверждения о доминировании и различиях более не рассматриваются как взаимоисключающие.)
1.2. Изучение неевропейских культур
Изучение неевропейских культур (ср. по данному вопросу [Gtinthner 1994; Gtinthner, Kotthoff 1991]) вскоре поколебало европейские стереотипы о гендерных ролях и гендерно обусловленном речевом поведении:
– У племен волоф в Сенегале красноречие и умение риторически создавать доминирование оцениваются негативно и индуцируют низший социальный статус. Здесь обучают красноречию прежде всего женщин. В Бурунди, напротив, красноречие рассматривается как центральная общественная ценность, и мальчики из высших слоев с раннего детства серьезно занимаются риторикой, тогда как девочки должны упражняться в искусном молчании.
– На Мадагаскаре идеальный собеседник уклончив и избегает открытой конфронтации. В то же время именно мужчин обучают этому завуалированному, поддерживающему гармонию стилю речи, «изворотливому языку». Стиль речи женщин считается бесцеремонным, несдержанным, слишком прямым, тем самым представляющим угрозу для мира в группе, т. е. является постоянным потенциальным источником конфликта. Публичные речи (улаживание конфликта или церемонии) входят в компетенцию мужчин, поскольку женщины считаются недостаточно способными к изящной речи и дипломатии (ср. наши клише о дипломатии женщин). И наоборот, для сообщения плохих известий в качестве вестников часто привлекаются женщины.
«Гендерлект», таким образом, оказывается по сути категорией, не заданной изначально; он имеет выраженный характер конструкта. В одном случае болтливость или вербальная агрессия, или молчаливость, или завуалированность оцениваются высоко, в другом – низко, в одном случае приписываются женщинам, в другом – мужчинам. Примечательно только, что положительная оценка стиля, его престижность всегда коррелируют с мужским полом.
В любом случае работы по изучению неевропейских культур показали, что неправомерно рассматривать определенные коммуникативные стратегии в жесткой и однозначной связи с определенными функциями общения и с приписыванием значений. В социолингвистике сегодня не исходят ни из константных различий в стиле мужчин и женщин, ни из того, что «гендер» является наиважнейшим фактором регулирования общения. Вместо этого ученые концентрируют свое внимание на вопросе, как различаются механизмы приписывания значения в специфичных коммуникативных ситуациях и какие нюансы может внести в этот процесс «гендер». Вместо устаревшей оппозиции «женский язык– мужской язык» применяется понятие «гендерно предпочтительные стилевые формы» для обозначения того, что не может быть и речи о двух разных языковых картинах мира, а эмпирические данные выявляют, что внутри определенного коммуникативного жанра (о понятии см. [Gtintner, Knoblauch 1994]) представители того или иного пола выбирают определенный тип речевого действия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу