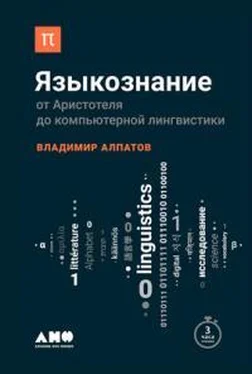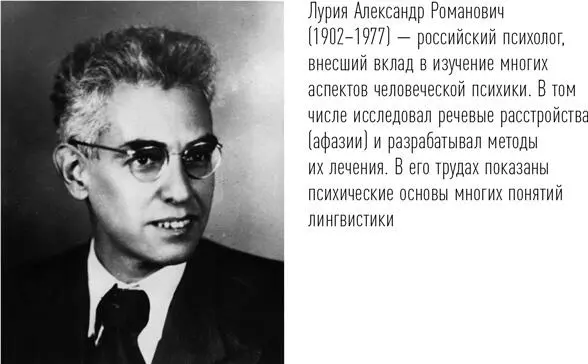Гораздо хуже, чем производство звуков, изучены механизмы слухового восприятия. Но сложнее всего подступиться к исследованию речевых механизмов мозга. Их прямое изучение и сейчас делает только первые шаги. В течение долгого времени данная дисциплина, так называемая нейролингвистика, изучала свой объект лишь по косвенным данным, без проникновения в мозг. Такие данные предоставляет, в частности, изучение афазий — речевых расстройств. Речевой механизм человека может выйти из строя не целиком, а частично; из этого был сделан вывод о том, что он состоит из отдельных «блоков», которые могут перестать действовать при повреждении тех или иных участков мозга. Еще в XIX в. исследователи пришли к выводу, что разные виды афазий вызваны поражениями определенных зон коры головного мозга.
Очень интересны проведенные еще более полувека назад исследования нашего выдающегося ученого Александра Романовича Лурии (1902–1977). В годы Великой Отечественной войны он занимался лечением людей, получивших на фронте повреждения мозга. В книге «Травматическая афазия» (1947) он описал материал различных речевых расстройств. Одно из них — так называемый «телеграфный стиль». Вот образец речи такого больного (попытка рассказать содержание фильма): Одесса! Жулик! Туда… Учиться… Море…. Эх! Ми-ли-ци-о-нер… Эх! Знаю! Касса! Папиросы . Можно видеть, что его речь состоит из назывных и инфинитивных предложений, состоящих из одного слова. Как правило, больной произносил существительные в форме именительного падежа, а глаголы — обычно в форме инфинитива. Иногда в его речи появлялись и словосочетания, но лишь в виде устойчивых штампов. Например, в ответ на вопрос о том, кем он был на фронте, больной отвечал: Начальник радиостанции . Однако он не мог ни свободно сочетать слова, ни склонять или спрягать их. При этом словарный запас больного оставался тем же, что до ранения.
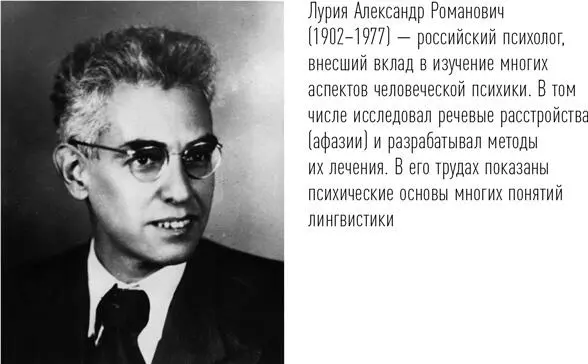
В книге описано и противоположное по характеру расстройство: больной свободно сочетал слова без ошибок в грамматике, но словарный запас оказывался крайне обедненным. Вот пример речи такого больного (попытка рассказать о своем состоянии): Мне прямо сюда… и всё… вот такое — раз. Я не знаю… вот так вот… И уже не знаю… Когда я тут — и никак… ничего… никак… Сейчас ничего… А то — никак… Я когда-то… ох-ох-ох! Хорошо! А сейчас никак . Остающиеся слова используются «иероглифически» без возможности расчленить их на звуки или буквы. Больная данным видом афазии журналистка без затруднений произносила слова Москва , «Правда» , «Известия» , революция и т.д., но не могла назвать буквы.
Сейчас одним из центров нейролингвистики является петербургский коллектив во главе с Татьяной Владимировной Черниговской. Она также, в частности, отмечает, что при нарушениях механизмов мозга обоих вышеописанных типов «морфологические процедуры почти не производятся: в ментальном лексиконе слова хранятся целиком, списком, без осознания их структуры»; служебными морфемами становится невозможно оперировать. В то же время среди носителей русского языка «даже лица с речевыми нарушениями обязательно используют какие-либо окончания». Вспомним и знаменитую фразу из русско-китайского пиджина: Моя твоя не понимай , где уже нет морфологии, но какие-то окончания остаются.
Другой источник сведений — исследование детской речи; здесь, наоборот, механизм только постепенно вырабатывается и начинает действовать. Оно также активно ведется, в том числе и в России (Стелла Наумовна Цейтлин и др.). Исследователи отмечают, что на раннем этапе развития (когда уже пройдена стадия произношения отдельных звуков и слогов) сначала возникают слова-предложения. В это время грамматически полные фразы составляют лишь небольшой процент высказываний; при восприятии речи также из высказываний окружающих выхватываются отдельные слова, на которые происходит реакция. Таким образом, на этом этапе есть слова, которые, по выражению Цейтлин, имеют вид «замороженных словоформ» без возможности соединять их. Это напоминает «телеграфный стиль», но на данном этапе еще и бедна лексика, которая, однако, быстро пополняется. Использование слов без окончаний и здесь невозможно. На последующих этапах дети, осваивающие русский язык, начинают сочетать слова, однако изменение слов осваивается не сразу, и в это время особую роль играет порядок слов. Для людей, окончательно овладевших этим языком, он обычно грамматически не значим, но дети какое-то время не могут различить фразы: Покажи ключом гребешок и Покажи гребешком ключ . У детей всё начинается со слов, тогда как представление о морфемах (корнях, окончаниях) вырабатывается поздно, при афазиях выделение морфем быстро разрушается, но всё кончается словами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу