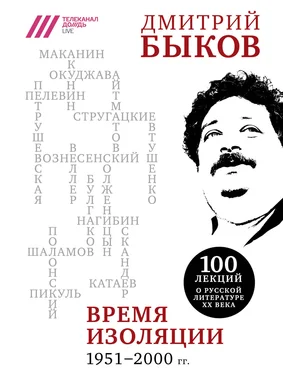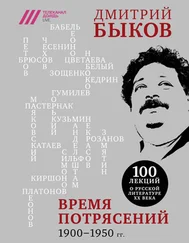Кира Муратова, которая так любит Петрушевскую и называет её главным писателем сегодня, абсолютно точно показала этот приём. Помните зачин фильма «Мелодия для шарманки», когда два ребёнка, сироты, едут в замёрзшей электричке, и в этой электричке нищий включает магнитофон, чтобы ему больше подавали, и этот магнитофон поёт: «Спи, мой сыночек, спи, мой звоночек родной». После этого пролога я сразу понял, что бить будут долго и больно. И три часа, которые длится «Мелодия для шарманки», нас так окунают, а в конце там ещё над замёрзшим на улице ребёнком стоит, как душа, воздушный шарик. Ну мать моя женщина! Вот шарик над трупом – в этом вся эстетика Муратовой и вся эстетика Петрушевской. Но ведь это делается для того, чтобы мы, обжёгшись, пожалели, чтобы у нас появилась хоть какая-то чувствительная точка.
Я, конечно, гораздо выше ставлю те тексты, в которых Петрушевская изобретает, придумывает, в которых она фантаст. Петрушевская большой мастер социальной антиутопии: те же «Новые Робинзоны», когда вся семья, ожидая того, что начнётся, а мы все понимаем, что начнётся, сбежала в лес и там живёт, заготавливая грибы, и там две старухи, одна совсем выжила из ума, а другая кладезь народной мудрости. Ну и гениальный рассказ «Гигиена» – это вообще лучший русский рассказ девяностых годов. Пошла эпидемия, и семья стала так к ней готовиться, что, в общем, умерла от гигиены. Один из самых страшных и до тошноты физиологических текстов Петрушевской, жуткое дело.
Когда она придумывает, как придумывает она переселение душ и таинственное племя энти в романе «Номер один», вот тогда я восторгаюсь. Но когда она описывает поистине звериный быт, я думаю, что это перебор. Ладно, может быть, это перебор для меня, но кого-то она заставит очухаться, и, в общем, девяностые годы были временем шоковой терапии. Ею занимались два человека, Чубайс – в экономике и Петрушевская – в литературе, оба одинаково жестоко. Но надо вам сказать, чего-то они добились, они разбудили в народе способность заботиться о себе, потому что понятно стало, что больше заботиться некому, и разбудили сострадание, потому что без него мир не выживет.
У Петрушевской довольно много сказок. И в сказке «Часы», после того, как мать и дочь примирились, колдунья говорит: « Ну что же, пока что мир остался жив ». И в девяностые он остался жив не в последнюю очередь благодаря Петрушевской. Не будем забывать, что её главный сценарий – «Сказка сказок», которую сделал Норштейн. И в этом сценарии написано, что все картинки, которые мы показываем, должны гармошкой складываться в один звук, в одно слово – «живём». И тексты Петрушевской складываются в этот звук, поэтому, как ни странно, как это ни парадоксально, её чёрная безнадёжная «Время ночь» рождает ощущение надежды, с которым мы и остаёмся.
Виктор Пелевин
«Синий фонарь»,
1993 год
Вот мы и добрались до 1993 года, до книги «Синий фонарь» Виктора Пелевина в серии «Альфа-фантастика», до самого яркого прозаического дебюта девяностых.
Виктор Пелевин – писатель, которого, собственно, до девяностых годов никто не знал, который начал с публикации очень сильных рассказов и повести «Омон Ра» в «Знамени», который собрал сборник «Синий фонарь» в издательстве «Текст» в редакции Александра Мирера, человека с безошибочным чутьём, близкого друга Стругацких. Мирер первым и почувствовал, что в русскую литературу пришёл действительно великий писатель.
Я помню своё страстное предубеждение против Пелевина, потому что я ужасно не любил всё модное. Но я открыл «Жизнь насекомых», вышедшую в 1993-м, зачитался с первого момента и сразу понял, как горячо и глубоко я солидарен с этим удивительным, незабываемо ярким, человечным, сентиментальным писателем. Для меня Пелевин достиг некоторой вершины своей новеллистики в «Синем фонаре». После этого он перешёл на романы, которые одним нравятся, другим – нет. Но точно могу сказать, что такие повести, как «Затворник и Шестипалый» и прежде всего «Принц Госплана», конечно, не имеют себе равных в тогдашней литературе. Почему? Проще всего сказать, что Пелевин сконструировал новый, если угодно, конструктивный принцип прозы. Это череда бесконечных встроенных друг в друга клеток, и из одной клетки ты можешь попасть только в другую. Это искусство проецировать жизнь, классические жизненные ситуации на всё, что угодно, вокруг: на компьютерную игру, на приключения двух цыплят, на жизнь насекомых, как уже было сказано. То есть это проекция жизни на целый ряд более мелких и более понятных структур, издевательская проекция, всегда снижающая, но тем не менее она именно и передаёт ощущение клетки и бесконечное желание вырваться из неё. Но принц не может вырваться из монитора, принц всегда странствует только внутри игры, и как бы хорошо он ни прыгал, как бы точно ни подтягивался, он всё равно максимум, до чего может дойти, это до принцессы на последнем уровне. А принцесса сделана из тряпок, и это, пожалуй, его самое глубокое разочарование.
Читать дальше