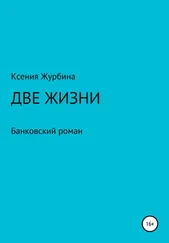Из второй половины наброска этого эпизода он перенес в роман, правда со значительными изменениями, «шекспировскую» сюжетную линию взаимной любви Аглаи и Мышкина: «Тут входит Аглая, – читаем мы в черновой записи, – спокойно, величаво и просто грустная, говорит, что во всем виновата, что не стоила любви Князя, что она избалованная девушка, ребенок; что она вот за что полюбила Князя (и тут Отелло)…» (9; 284–285).
Как отмечается И. А. Битюговой в академическом комментарии (9, 382), Достоевскому, скорее всего, был известен перевод трагедии Шекспира, принадлежащий П. И. Вейнбергу (СПб., 1864). В сцене третьей первого действия Отелло говорит о Дездемоне: «Она меня за муки полюбила, а я ее – за состраданье к ним». «Отелловские нотки» звучат в «сцене соперниц», где Аглая объясняет Настасье Филипповне: «Я вам должна еще сказать, что я ни одного человека не встречала в жизни подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Я догадалась <���…>, что всякий, кто захочет, тот и может его обмануть, и кто бы ни обманул его, он потом всякому простит, и вот за это-то я его и полюбила…» (8; 471–472). Избалованность же и детскость Аглаи, всегда ей присущие, особенно ярко сказались в сцене на зеленой скамейке, заменившей в окончательной редакции «евангельский эпизод», и затем в четвертой части романа (история с ежом, сцена «сватовства», спровоцированная Аглаей, после которой она просит простить ее, «избалованную девушку», «как ребенка за шалость») (8, 429).
Во всех любовных эпизодах, пусть и в сниженном по сравнению с «шекспировским наброском» варианте, Достоевский показывает упомянутую в нем «глубину и драгоценность» чувств Аглаи (9, 285). Поэтому резкое снижение ее образа в «Заключении» к роману, написанном из-за неблагоприятных обстоятельств наскоро, не представляется мне художественно оправданным. 11 июня 1868 года писатель отметил в черновиках: «Аглая падает, по-видимому» (9, 274). В романе падение ее происходит во время встречи «соперниц», в соответствии с ноябрьской черновой записью к этой сцене: «(Аглая чтоб была ребенок и бешеная женщина вместе)» (9, 288). Однако в этом эпизоде девушка признается, как уже говорилось, что полюбила князя за простодушие и всепрощение. Эти же качества привлекают к нему и сердца читателей. Трудно согласиться с тем, что брак Аглаи с польским графом-эмигрантом, который оказался «даже и не графом», а просто человеком с «темною и двусмысленною историей», ее членство в комитете по восстановлению Польши и чрезвычайное влияние на нее католического «патера, овладевшего ее умом до исступления», являются убедительным завершением судьбы этой героини: Достоевский ведь связывает ее с тем, к чему сам испытывал глубочайшую неприязнь!..
Джосеф Франк придерживается, очевидно, иного мнения. Он считает, что пылкую, высокомерную и гордую идеалистку всегда привлекал «христианский идеал католического Запада», воплощенный Пушкиным в образе рыцаря бедного. По мнению ученого, смысл седьмой строфы пушкинского стихотворения, которое Аглая читает вслух, заключается в контексте романа в том, что она желает найти и в Мышкине «воинствующий католицизм», желает, чтобы ее избранник был импозантен в глазах общества, чтобы им восхищался свет [47]. Интересно сопоставить это мнение с черновой записью Достоевского из раздела «Рыцарь Бедный». Варя говорит Гане о «странном, увлекающемся характере Аглаи»: «Ты знаешь, за кого она хотела бы выйти, – за нищего, за NN, потому что он гонимый. Она о рыцаре бедном мечтает» (9, 264). На мой взгляд, в Мышкине невозможно увидеть героя импозантного «на западный образец» даже при всей наивности и детскости Аглаи.
Важно детальнее проследить эволюцию чувств Мышкина к Настасье Филипповне и развитие его новой, светлой любви к Аглае, раскрывающиеся в романе. Текст его опровергает широко распространенное в критической литературе мнение, что Достоевский задумал своего героя как существо бесполое, неспособное к нормальной земной любви и т. п. Все разделяющие эту точку зрения ссылаются на признание Мышкина в конце первой главы «Идиота». Отвечая на вопрос Рогожина, большой ли он охотник до женского пола, князь говорит:
– Я, н-н-нет! Я ведь… Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю (8, 14).
Однако текст «Идиота» не оставляет сомнений в том, что прирожденная болезнь героя носила совсем иной характер , чем многие подразумевают в этих словах. Я буду в дальнейшем говорить об этом подробнее. Пока же замечу только, что, оттеняя этой репликой невинность, девственность князя, автор вовсе не хотел привести читателя к мысли о том, что Мышкин неспособен и в будущем полюбить женщину. Рассказывая Аглае о нескольких месяцах мучительных отношений с Настасьей Филипповной, князь так говорит о перемене, происшедшей в душе его:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
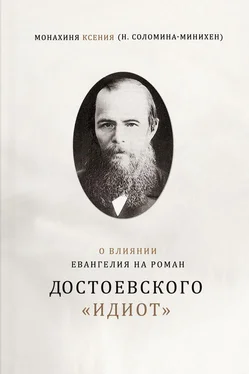
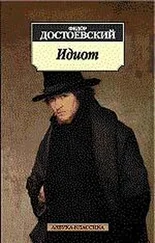


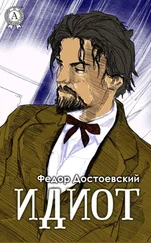
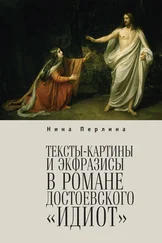
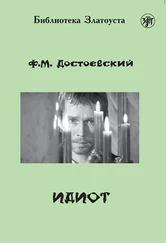
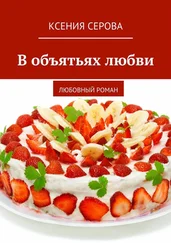
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/429285/fedor-dostoevskij-idiot-litres-thumb.webp)