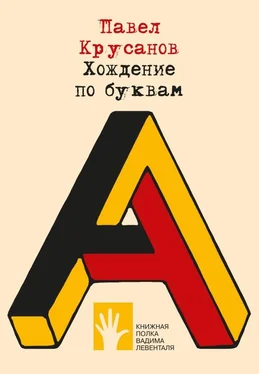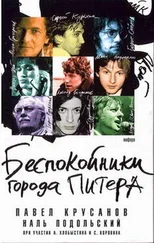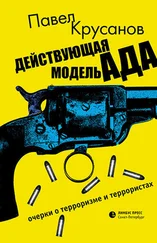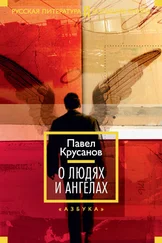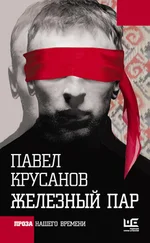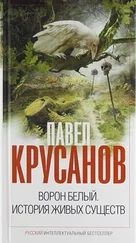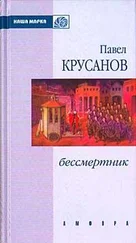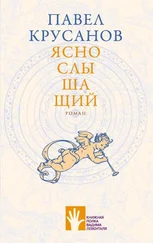Справедливости ради следует признать, что в начале книги, где читатель найдёт записки путешественника об Армении, пластический дар автора ещё пытается вступить в противоречие с замыслом своего носителя и искусно навевает некий гипнотический сон наяву. Однако по прошествии неполных тридцати страниц авторская воля берёт верх над сопротивлением таланта, и всё становится на свои места. (В середине есть ещё объемные заметки о Германии, но они уже никого не введут в заблуждение.) То есть автор, поддавшийся было древнему цеховому завету «делай так, чтобы не обнаружить предела своих умений», быстро сливает завет в нужник и откровенно демонстрирует границы собственных возможностей.
Действительно, в формате «наблюдений и мыслей» пластическому дару не размахнуться и не набрать необходимой критической массы, чтобы одурманить и очаровать заглянувшего в книгу читателя. Тут должны вступать в дело пронзающий укол мысли, взрывная метафора, леденящая душу картина, вводящий в восторженную немоту парадокс. Может, автор приберёг их на этот случай? Боже упаси. Ведь он замыслил неудачу, необходимость которой даже некоторым образом обосновал: «Если конструкция не способна качнуться, прогнуться, отклониться – она ломается. Если человек не умеет проигрывать, единственный проигрыш станет для него окончательным». Примерно такого уровня прозрения и есть высшие достижения авторской мысли. Вот, скажем, пассаж из рассуждений о взаимоотношении искусства и денег: «Искусство корыстно только в той степени, в которой оно способно обеспечить своё существование. Другое дело, что порой цена его высока. Иногда она превышает цену жизни».
Впрочем, не только интеллектуальной силой бывает славна литература. Может быть, в традициях новой искренности автор впадает в припадок исповедания и его записные книжки рассказывают нам, какой он стоеросовый дуболом и как бездарно просрал свою жизнь? Ничуть не бывало – автор лоснится и светится, он чист и даже немного поскрипывает, как будто только из бани. Что ж, тогда, может быть, автор зажигает на страницах книги указующие путь к вершинам духа этические маяки и описывает деяния невероятной доблести и жертвенности? Тут в точку – зажигает и описывает. Примером беззаветной доблести для Иличевского является физик Георгий Гамов, в 1932 году пытавшийся с подругой на байдарке уплыть из Крыма в Турцию. Тогда не получилось – помешала стихия, рок греческой трагедии. Получилось год спустя, когда он стал банальным «невозвращенцем», воспользовавшись приглашением на международный конгресс. Так автор и пишет: «…прорыв Гамова на байдарке с любимой девушкой за горизонт, а потом и в будущее науки, был вне конкуренции. И остаётся таковым и сейчас». Действительно, пусть Капица с Ландау, коллеги Гамова по цеху, в России веники вяжут, а настоящие пацаны, как свободные караси, плывут туда, где ангелы крошат для них батон.
Про самообожание и надутые щёки автора промолчу, с этим у него всё в порядке – черпай лопатой. Романтическая фигура, одинокий и гордый герой. Однако же – ни дня без строчки: ведь там, внизу, у подножья башни из слоновой кости замерла в ожидании вещих слов толпа. Накрошим ей из рабочих тетрадей.
Александр Снегирёв. «Как же её звали?..»
Эта книга меня обрадовала и огорчила одновременно. За Снегирёвым как за автором я слежу (чистоплотно, без вуайеризма сегодняшних соцсетей) довольно давно и ответственно заявляю: из года в год он пишет всё лучше и лучше. Более того, в этом сборнике есть рассказы, которые можно признать эталоном жанра, столь безупречно они исполнены. И рассказчик у него отличный: живой, без дутых комплексов мужественности, ироничный, не страшащийся показаться простоватым, смешным, нелепым. Полное доверие. И не велика беда, что интонационно рассказчика автор от истории к истории зачастую клонирует – такое, скажем, сплошь и рядом мы встречаем и у Зощенко, и у Сергея Коровина. Беда в другом – когда от частей пытаемся перейти к целому. И не переходится.
Прошу прощения за прописи: монтаж книги – это не просто сведение под одной обложкой всего, что на данный момент оказалось у автора под рукой со свободными правами. Так монтируют книги обделённые издательским вниманием члены писательских союзов, когда на них вдруг обрушивается муниципальный грант, и они спешат выгрести из пыльных столов и затолкать под крышку переплёта всё, что скопилось за годы унизительного невнимания: повести, драмы, стихи, рецензии на произведения товарищей по несчастью. У опытного читателя, не испытавшего на себе муки авторской непризнанности, подобные тома вызывают недоумение. Потому что опытный читатель знает: в книге должна быть своя драматургия/симфония/композиция, даже если эта книга – сборник рассказов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу