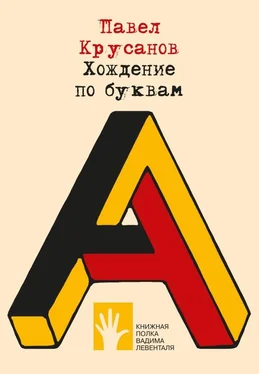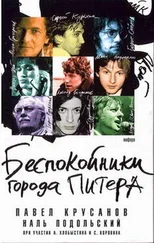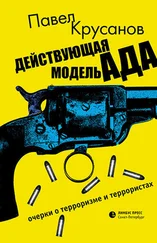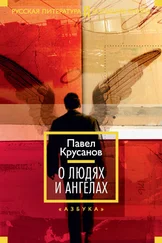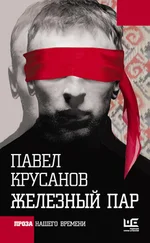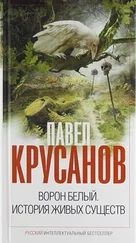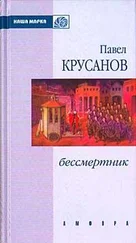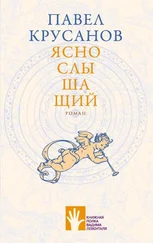Иное дело Алла Горбунова. Она родилась в Ленинграде, пишет стихи, литературную критику и странную, завораживающую прозу, лауреат премии «Дебют», окончила философский факультет Университета, переводится на иностранные наречия, младше Аксёнова на 32 года. Но странное дело – её, горожанку, подчас волнуют видения природы дикой, не прирученной, будто и её корни давит асфальт, будто и они тоскуют по иной земле:
за Запорожским, за Денисово –
боры,
в борах – боровики,
и в сапогах резиновых мне жарко
ходить по мхам под солнцем, свет дающим
так лихорадочно –
как бы последнюю любовь…
Или вот:
Трещат в ночи медведки и сверчки,
токуют глухари,
растут изборождённые сморчки,
из куч лесных выходят муравьи,
из нор своих выходят барсуки,
из пней трухлявых родились ежи,
и всякий гад выходит из земли:
цветные ящерки и серые ужи…
И прилетели пеночки, стрижи…
Идёт война лягушек и мышей,
божьи коровки в пятнышках летят,
а вот и пара заячьих ушей,
и выводок лосят.
Разумеется, круг тем у Горбуновой значительно шире, он не ограничивается приведёнными выдержками, но и она впускает Петербург в свои строчки весьма скупо. В чём дело? Живя в красивейшем городе земли, оба автора как будто боятся неловким прикосновением потревожить его красоту, спугнуть нечаянным словом его неописуемое обаяние, спустить взведённую пружину неназванной беды. Один умудрённый, другая на взлёте, стратегии письма, материал, творческий арсенал – совершенно разные, но оба ускользают в своих символических небесах от города, как от затаившейся опасности. Проблему эту кавалерийской атакой не решить, но обозначить следует.
Присмотримся внимательнее.
На протяжении многих лет в своих книгах Василий Иванович Аксёнов придерживается определённой линии, никуда не сворачивая и не отклоняясь. Что это за направление – попробуем сформулировать. Начнём с того, что персонажи его книг всегда люди обыкновенные (на первый взгляд), совершающие обыкновенные поступки. И действие романов Аксёнова, как уже упоминалось, происходит исключительно в Сибири, но не в городах, а там, где люди непосредственно соприкасаются с девственной природой – с тайгой, с рекой, с чистым или грозовым, но не оплетённым проводами небом. Войны, революции и прочие социальные и политические катаклизмы, происходящие в далёком внешнем мире, сотрясали и сотрясают и здешние вековые чащобы, но что они значат для людей, чьи предки пришли в эти медвежьи углы триста лет назад и научились жить в гармонии с первозданной природой? Случается по-разному. В чьём доме сохранился уклад дедов и прадедов, основанный прежде всего на духовной традиции, тому проще оставаться человеком при любых испытаниях. А утрата связей с ценностями традиции ставит личность на грань деградации и гибели. Это подспудно, ненавязчиво прослеживается на примере судеб персонажей.
Аксёнову удаётся решать поставленные задачи без проповедей и дидактики, просто перемещая место действия во внутренний мир героев. И в этом ему помогает искусство безошибочного выбора рассказчика. Однако Аксёнов – вовсе не «писатель-деревенщик», хотя, казалось бы, формально может быть причислен к этому направлению. Почему? В первую очередь благодаря органичной, но одновременно весьма непростой фактуре своего письма, самой ткани повествования, полной литературных перекличек и неожиданных культурных отголосков. Проза Аксёнова во многом сродни литературе «потока сознания», однако носитель этого текучего сознания , как правило, человек духовно рефлексирующий, которого ведёт во всех его бытийных перипетиях (прошу простить за пафос, которого в прозе Аксёнова днём с огнём не сыщешь) некий лучик Божий. И в этом угадывается определённое сродство его книг с духовной христианской литературой, раскрывающей смысл человеческой жизни через основание всех основ. Можно сказать, Аксёнов как художник (в широком смысле) занимает собственную, едва ли не уникальную нишу в русской литературе, по существу единой, даже если в свете злобы дня обнаруживается, что, например, Антон Павлович Чехов любил упоминать о своих украинских корнях, причисляя себя к «хохлам», а Николай Васильевич Гоголь, напротив, всегда называл себя русским писателем.
По существу книги Аксёнова – своего рода моления. Не молитвы, а именно моления (подзаголовок на титульном листе романа «Была бы дочь Анастасия», вышедшего в 2018 году в финал литературной премии «Национальный бестселлер», так прямо и указывает: «моление»), во время которых герой-рассказчик напряженно вглядывается в лица односельчан, в слепую вьюгу, в зелёный ельник, в неторопливую смену времён года и в движения собственной души. И тут становится понятно, почему Аксёнов, долгие годы живя на два дома (полгода в СПб, полгода в сибирской Ялани), не написал про Петербург (про героя в Петербурге) ни одного значительного текста. (По крайней мере нам такой не встретился.) Дело в том, что только в Ялани он и был счастлив, только там, где родился и вырос, где поймал первую рыбу и впервые влюбился, где солнце, снег и тугой ливень били ему в лицо и по коленям, испытывал полноту бытия (даже горечь утраты родителей и нравственные терзания, если это не муки чёрной совести, дают нам полноту чувствования и ощущение слияния с окружающим пространством, если угодно – с миром), а без этого ему не мила никакая иная красота. Поэтому он всё время мыслями и чувствами возвращается в колючую елово-пихтовую Ялань, как в утраченный Эдемский сад. Вот и в «Анастасии…» он открытым текстом, безо всякой кодировки говорит устами своего героя:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу