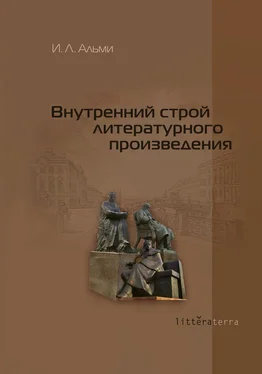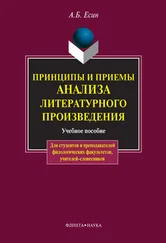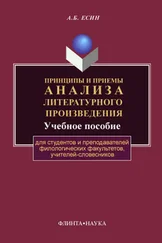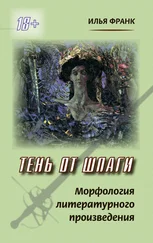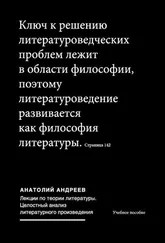Суть в том, что традиционный в своей фольклорной окрашенности эпизод содержит важнейший жизненный урок, адресованный героине. Он демонстрирует образец исконно женского поведения – кокетства, но не искусственного, светского, а естественно-природного. Действие романа – на последнем его этапе – вберет в себя и этот будто походя брошенный штрих. Он отзовется в том, как Татьяна – законодательница зал – строит свои отнощения с влюбленным в нее Онегиным. При всей своей искренности (или, точнее, высокой подлинности) героиня ведет с ним своеобразную игру:
Она его не замечает,
Как он ни бейся, хоть умри [19].
Сугубое невнимание к Онегину, меняющемуся на глазах, вызывает даже подобие авторского укора, характерно обращенного ко всему женскому полу.
Бледнеть Онегин начинает:
Ей иль не видно, иль не жаль;
Онегин сохнет <���…>
<���……………….>А Татьяне
И дела нет (их пол таков)<���…> [20]
Постоянно подчеркивая человеческую исключительность своей героини, Пушкин тем не менее не останавливается перед тем, чтобы ввести эту исключительность в контекст жизненно повседневного. Так, внешне незначительный, но выделенный автором фрагмент романа в стихах оказывается внутренне соотнесенным с его сюжетной магистралью [21].
4
Исследование особенностей внутреннего строя романа в стихах делает естественным перенос внимания на роман прозаический. Хотя, по слову Пушкина, их и разделяет «дьявольская разница». Впрочем, эта разница ощущается в наибольшей степени, если иметь в виду европейскую прозу XVIII – начала XIX в. В центре же нашего внимания форма гораздо более поздняя, лишенная правильности классического канона, – роман Достоевского. Речь пойдет об определенных сторонах в его изучении.
В общей практике внимание не к отдельному эпизоду, но к специально выделенной стороне художественного целого оборачивается, как правило, изучением каких-то моментов композиции. Оно может протекать как описание элементов наиболее очевидных, статичных (архитектоники) либо как внимание к той ее стороне, которую мы, вслед за Эйзенштейном, называем ходом строения вещи. Разумеется, в процессе конкретного анализа эти пути не могут быть строго разделены. Попытаемся, однако, ради примера представить их в наибольшей обособленности. Архитектонику– на пространстве «Преступления и наказания», сюжетную динамику – на материале романа «Идиот».
Ограничимся для начала наиболее очевидным. Базис герменевтического анализа – медленное чтение, фиксирующее прежде всего последовательность расположения художественного материала. По отношению к «Преступлению и наказанию» оно дает немаловажный результат: становится более ясным один из самых сложных моментов трактовки романа – соотнесенность полярных мотивов преступления [22].
Художественное пространство первого из них – первая часть романа. «Убить для других» – таков для Раскольникова центральный смысл эпизодов, предваряющих преступление. Здесь – стержень мысли героя, нерв, пронизывающий события, объективно между собой не связанные. Итог всей их цепи – сцена, акцентированная особенным своим положением: единственная среди эпизодов первой части, она выведена из хронологического ряда. Это припомнившийся Раскольникову разговор в трактире. В речах безымянного студента мысль об оправданности «гуманного» преступления не просто аргументируется; она доводится до непреложности формулы («…да ведь тут арифметика!»).
Второй мотив преступления («убить для себя») в первой части романа не формулируется. Он возникает здесь лишь спорадически – как идеологический подтекст охватывающих героя вспышек злобы, внезапных сломов от величайшего сочувствия страдающим к презрительному отторжению от них («Да пусть их переглотают друг друга живьем– мне-то чего?»). Автором, однако, эти вспышки не комментируются. А потому могут быть восприняты как одна из многих «невнятиц» душевной жизни человека, оказавшегося во власти сбивчивых ощущений. Понимание того, что стоит за такими сломами, приходит ретроспективно, черпается из материала, развернутого лишь в третьей части романа.
Часть открывает описание первой встречи Раскольникова с Порфирием Петровичем. Ядро этой сцены – статья Раскольникова «О преступлении». Центр статьи– «наполеоновская теория», фундамент второго мотива убийства. Сам факт изложения этой теории лишь в центре романа, как бы вопреки хронологии (статья, как становится известно, была написана за полгода до событий первой части), имеет собственный смысл. Второе – философское по преимуществу – обоснование преступления всплывает, когда в нем появляется настоятельная надобность. Психологическая. Сюжетная. Идеологическая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу