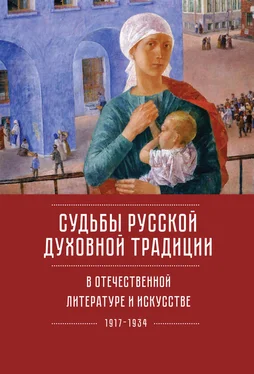Авангарду решительнее всего противостоял Художественный театр, его спектакли, поставленные великими деятелями сцены Станиславским и Немировичем-Данченко.
На сцене МХАТ продолжали идти спектакли, созданные еще до революции: по пьесам Чехова, Горького, Льва Толстого. Они не утратили ни социального смысла, ни человечности.
После триумфального успеха «Чайки» (1898) театр избрал своей эмблемой силуэт летящей чайки. В те первоначальные годы приподнятым, полетным было мироощущение молодой труппы, в содружестве с Чеховым окончательно уверовавшей в свое будущее. Театр почувствовал в его пьесах близкий себе мотив – тоску по гармоническому, солидарному существованию людей, которые разобщены. Не певца сумерек и беспочвенности, не унылого скептика увидели и открыли в Чехове (в отличие от модернистов) Станиславский и Немирович-Данченко, а писателя, который, как им казалось, призывал «менять все общими усилиями».
При всей органике и закономерности союза МХТ с Чеховым (интеллигентный театр, интеллигентный драматург, пьесы об интеллигенции) в этом соединении многое крепилось и взаимным умилением, и тенденцией идеализации драматурга театром. Чехову изображаемое виделось комедиями («Чайка», «Вишневый сад»), а театр клонил к драматическим тонам. Автор готов был улыбаться и в ключевых сценах своих главных пьес, – скажем, отнюдь не драматизирована сцена из «Вишневого сада», где этот самый сад под корень вырубают под звуки танцевальной музыки еврейского оркестра… Да и Станиславский, словно вспомнив, что сам он еще и капиталист, смотрел на гибель сада глазами купца Лопахина: «Он хранит в себе… поэзию былой барской жизни. Такой сад растет и цветет для прихоти, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого». Лопахин был столь симпатичен режиссеру, что он мечтал о таком его исполнителе, который бы обладал размахом Шаляпина, чтобы всей мощью «рубить отжившее».
И в 1920-е годы спада интереса у публики к спектаклям МХАТа и, в особенности, к Чехову не обнаруживалось. Именно чеховские спектакли пользовались неизменным успехом.
Деятели МХАТа видели в драматурге романтика, который мечтал о Человеческом с большой буквы, видели проповедника, быть может, и несбыточной, но прекрасной, идеальной мечты о будущем, о Человеке, которому нужны не «три аршина земли», а весь земной шар. В его пьесах режиссеры МХАТа ощутили способность пробуждать чувства, которые связаны с «нашими большими переживаниями – религиозными ощущениями, общественной совестью, высшим чувством правды и справедливости, пытливым устремлением нашего разума в тайны бытия» 15. Этот угаданный и творчески домысленный Станиславским подспудный смысл чеховской драматургии режиссер стремился раскрыть в спектаклях: «Тончайшие ощущения души проникнуты у Чехова неувядающей поэзией русской жизни. Они бесконечно близки и милы нам, неотразимо обаятельны».
В послеоктябрьский период мхатовская Чеховиана, хотя и не сопрягалась со временем в социально-политическом смысле, выигрывала в другом – спектакли МХАТа как раз времени и противостояли. Среди кровавых оргий эпохи, общего одичания, страшного попрания всех социальных и нравственных норм непритязательные чеховские герои остались камертоном человечности, интеллигентности, нравственной просветленности, памятью о жизни, одухотворенную красоту которой не оценили и не сумели сберечь. В 1920-е годы это еще было важно и как противостояние разгулу бездуховного фальшивого авангардистского искусства. О неотразимом нравственном воздействии чеховских спектаклей Художественного театра и, в частности, образов, созданных Станиславским, сохранилось немало свидетельств. В связи с возобновлением «Дяди Вани» во МХАТе (1926) один из критиков поставил ему в заслугу то, что «на первый план правдиво и ярко выступили человек и человечность, мы соскучились о человечности» 16. Известный историк Художественного театра Н. Н. Чушкин свидетельствовал: «Астров Станиславского меня потряс… был воспринят как откровение… повлиял на всю мою дальнейшую жизнь».
Режиссеры и артисты МХАТ строили театр, в котором талантливо раскрывалась жизнь человеческого духа, и актер выступал не в роли лицедея, развлекающего публику, а становился проповедником добра и красоты. Традиционные для русского искусства человеколюбие и правдоискательство нашли развернутое воплощение в их творчестве. Отстаивая реализм, правду чувств, живого человека, как основу национального искусства, мхатовцы возвращали театру живую психологию, искали театральность пьесы не в искусственных преувеличениях формы, а в скрытом внутреннем психологическом движении. Именно так ставились произведения русской классики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу