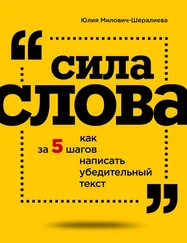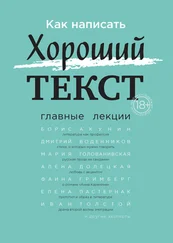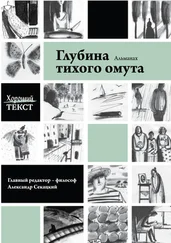След этого различия, пусть и очень легкий, сохраняется и в так называемых дискурсивных употреблениях, где вот и вон вроде ни на что не указывают и кажутся вполне взаимозаменимыми. Если обсуждается, что некто выполнил чью-то просьбу, а говорящий как-то это оценивает: например, считает, что тот зря это сделал, или, напротив, хвалит его за готовность помочь, то вполне уместны будут фразы (на самом деле они немного различаются по смыслу, но сейчас мы не будем на этом останавливаться), содержащие ссылку на то, что другой человек не стал этого делать:
Петя вот отказался;
Петя вон отказался.
При этом хотя хорошо:
Ты вот мог бы отказаться?
замена вот на вон здесь едва ли возможна:
Ты вон мог бы отказаться?
Говорящий задает прямой вопрос, касающийся лично собеседника, тем самым помещая того в фокус внимания, и странно при этом было бы одновременно использовать частицу, которая выводит предмет речи за пределы «ближнего круга».
Теперь посмотрим на сорокинский текст:
– Так это целый день стоять!
– Да что вы. Тут быстро отпускают.
– Чего-то не верится. Мы вон с места не сдвинулись…
в котором вон использовано по отношению к самому говорящему, за счет чего достигается эффект смещения эмпатии. Человек, ставший частью очереди, смотрит на себя со стороны, беря за точку отсчета не себя, а цель – прилавок, где «отпускают». Так человек, попавший в жернова больничной или тюремной машины, говорит о себе отстраненно: Я поступила… или Я подозреваюсь…
Конечно, это еле заметная деталь смысла. Но весь сорокинский текст соткан из таких незаметностей.
В свое время мы с моим коллегой лингвистом Дмитрием Добровольским описали использование в «Очереди» одной из самых ярких русских частиц – ну – и то, как справляются с нею английский и немецкий переводчики Сорокина [3] Добровольский Д.О., Левонтина И.Б. Дискурсивные частицы и способы их перевода: 'ну' в романе Владимира Сорокина «Очередь» // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (Москва, 31 мая – 3 июня 2017 г.). Вып. 16 (23): В 2 т. – М.: Изд-во РГГУ, 2017. Т. 2: 106.
. В небольшом произведении (29 643 слова) содержится около 300 вхождений ну .
Ну – очень трудное многозначное слово. Лингвисты много им занимались. Вкратце можно сказать, что общая идея ну – это усилие, давление, которое говорящий пытается оказать на собеседника или на самого себя. С помощью ну говорящий не просто побуждает, но всегда как бы «понукает» – погоняет, торопит (чувства его могут быть при этом разными: от радостного нетерпения до раздражения). Ну может использоваться в качестве отдельной реплики – например, выражающей призыв скорее сообщить информацию или успокоиться: – Ну? Ну? – Ну и ну, – отвечал Остап раздраженно, – один шанс против одиннадцати (И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев); – Ну, ну , пошутил (И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев). Очень часто два разных ну соседствуют в диалоге: одно сопровождает повторную просьбу, а другое – согласие (неохотное или после колебания); ср. – Мам, дай еще хлебца! – Нет, хватит. – Ну дай! Видишь, они поклевали. Дай! – Ну на, на… (В. Сорокин. Очередь); – Ну , немного совсем <���налить вина>? – Ну , немного можно (В. Сорокин. Очередь). Замечательно, что здесь Сорокин обыгрывает именно многозначность частицы. В примерах типа Это же Витька Иванов! Ну, в параллельном классе учился! говорящий при помощи ну призывает слушающего сосредоточиться и понять, что он имеет в виду.
Наиболее показательны, пожалуй, два фрагмента «Очереди», где ну оказывается структурообразующим элементом. В первом фрагменте перед нами контекст уговаривания:
– Простите, а вас как зовут?
– А зачем вам?
– Очень нужно.
– Ничего вам не нужно. Не скажу.
– Ну , скажите, не вредничайте.
– Неа.
– Ну , скажите, пожалуйста.
– Ну , а зачем вам?
– Ну , что вам жалко, что ли?
Этот эпизод весьма характерен. Роман Сорокина – об одиночестве человека в толпе и о его несвободе. Повторяющаяся частица ну маркирует здесь усилие человека, Вадима, пытающегося одиночество и несвободу преодолеть, и девушка Лена – это первая, неудачная попытка героя.
Читать дальше
![Борис Акунин Как написать Хороший текст. Главные лекции [litres] обложка книги](/books/413993/boris-akunin-kak-napisat-horoshij-tekst-glavnye-l-cover.webp)

![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов] [только текст]](/books/230943/boris-akunin-smert-na-brudershaft-filma-9-thumb.webp)

![Борис Акунин - Князь Клюква [litres]](/books/416186/boris-akunin-knyaz-klyukva-litres-thumb.webp)
![Борис Акунин - Русский в Англии - Самоучитель по беллетристике [litres]](/books/433227/boris-akunin-russkij-v-anglii-samouchitel-po-bell-thumb.webp)
![Борис Акунин - Звездуха [litres]](/books/436483/boris-akunin-zvezduha-litres-thumb.webp)