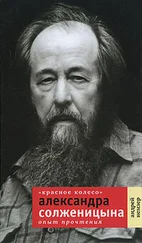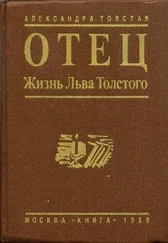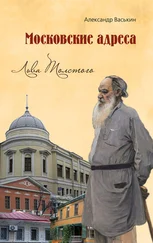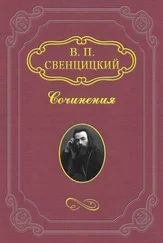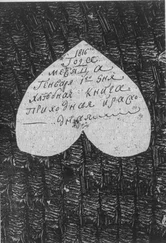И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»
Он стал прислушиваться.
«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».
«А смерть? Где она?»
Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!
Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.
– Кончено! – сказал кто-то над ним.
Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, – сказал он себе. – Ее нет больше».
Он втянул в себя воздух, остановился на половине вздоха, потянулся и умер. (ПСС, XXVI, 113)
В 1886 году, когда работа над «Смертью Ивана Ильича» шла к завершению, Толстой, помогая в работе старой крестьянке, поранил ногу; началось заражение крови, едва не ставшее для него смертельным. Длительное и тяжелое выздоровление вдохновило его на трактат «О жизни», где писатель дополнил свое моральное и социальное учение философией жизни и смерти, объединившей его веру в Природу и Разум, его понимание Евангелия и его усиливающийся интерес к восточной религиозной мысли. Первоначально Толстой собирался озаглавить трактат «О жизни и смерти», но потом отказался от второго слова, сказав: «смерти нет» (СТ-Дн., I, 123).
Толстой пришел к выводу, что жизнь каждого человека есть лишь крошечная капля в океане «общей жизни» и индивидуальная смерть представляет собой необходимое и освобождающее соединение с целым. Единственное проявление общей жизни, доступное человеку, – это любовь, которая не может ограничиваться узким кругом родных по крови. В своем переводе Толстой передал соответствующий стих из Евангелия от Луки так: «Потому что тот, кто поймет мое учение, для того не будут ничего значить: ни отец, ни мать, ни жена, ни дети, ни все его имущество» (ПСС, XXIV, 859).
Подлинная христианская любовь не могла иметь ничего общего с половым влечением, основанным на эгоизме и жажде обладания. Если настоящая любовь приносила свет и превращала смерть в радостное соединение с общей жизнью, то сексуальная страсть была сродни убийству. В «Анне Карениной» Толстой сравнивал Вронского, целующего тело Анны после их первой плотской близости, с убийцей, ударяющим ножом уже мертвую жертву. Противоположность обеих этих форм любви была для Толстого абсолютной – даже если первородный грех мог быть частично искуплен зачатием и рождением, по сути он оставался имморальным не только вне, но и внутри семьи.
Толстой долго испытывал эротическое влечение к жене, но ощущал его как слабость, с которой он должен бороться. Софья Андреевна не раз замечала в дневнике, что после их самой страстной любви, муж становился холодным и отчужденным. Вероятнее всего, он испытывал стыд за себя и свои порывы. В 1908 году, перед восьмидесятилетним юбилеем он пожаловался в «тайном дневнике», который специально прятал от жены, что биографы не станут писать о его «отношении к 7-ой заповеди». По словам Толстого, хотя он «ни разу не изменил жене», его сопровождала «похоть по отношению жены скверная, преступная. Этого ничего не будет и не бывает в биографиях. А это очень важно…» (ПСС, LVI, 173).
Толстой, конечно, отдавал себе отчет, что после его смерти дневник может оказаться доступен и жене, и публике. Тем не менее у нас нет ни малейших оснований заподозрить его в неискренности. Он всегда был готов обвинять себя в реальных или вымышленных прегрешениях. Однажды в 1879 году он поддался искушению и назначил свидание кухарке Домне. По дороге его остановил сын, попросив помочь с домашним заданием. Толстой не сомневался, что его спасло провидение. Он попросил учителя детей Василия Алексеева всюду сопровождать его, чтобы удержать от падения в бездну, а через пять лет в деталях описал этот случай в покаянном письме Черткову.
Показательно, что маниакально ревнивая и подозрительная Софья Андреевна ни разу не упрекала мужа ни в чем подобном в дневниках, переполненных самыми горькими и злыми обвинениями в его адрес. В мемуарах, написанных специально, чтобы свести счеты с Львом Николаевичем, она даже, несколько преувеличивая, подчеркивает, что никогда не сомневалась в его физической верности. Еще показательнее, что такого рода намеков совсем нет в сотнях антитолстовских памфлетов, авторы которых искали малейшего повода, чтобы обвинить его в лицемерии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу