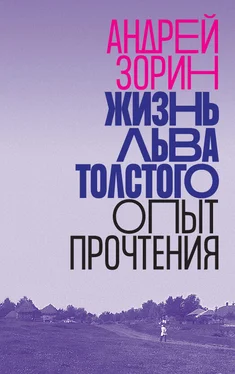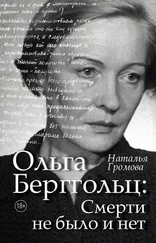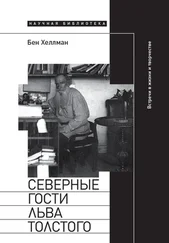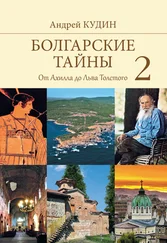Выйдя замуж в восемнадцать лет, Софья ощущала свое призвание не менее сильно, чем Лев. Он отказался от привычного образа жизни, чтобы стать великим писателем, а она – чтобы стать женой великого писателя. В 1866 году переписывая «Войну и мир», она рассказала в дневнике о своем почти религиозном отношении к творчеству мужа:
Это мне большое наслаждение. Я нравственно переживаю целый мир впечатлений, мыслей, переписывая роман Левы. Ничто на меня так не действует, как его мысли, его талант. И это сделалось недавно. Сама ли я переменилась или роман действительно очень хорош – уж этого я не знаю. Я пишу очень скоро и потому слежу за романом достаточно скоро, чтобы уловить весь интерес, и достаточно тихо, чтоб уловить, продумать и обсудить каждую его мысль. Мы часто с ним говорим о романе, и он почему-то (что составляет мою гордость) очень верит и слушает мои суждения. (СТ-Дн., I, 80)
Восемь лет спустя, когда Толстой остановил работу над «Анной Карениной» ради «Азбуки» и «Книг для чтения», она с раздражением писала сестре:
То его дело, т. е. писанье романов, я люблю и ценю и даже волнуюсь им всегда ужасно, а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и даже притворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то не достает, что я любила, и это именно не достает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уважение. Вот Таня, я настоящая писательская жена, как к сердцу принимаю наше авторское дело.
Софья Андреевна всецело принадлежала миру прозы Толстого и ощущала его отход от главного – в этом она была уверена – дела его жизни как утрату собственной миссии. Помогать мужу в работе над учебными книгами ей не хотелось:
Пусть писарь переписывает. Мое дело было переписывать бессмертную «Войну и мир» или «Анну», а это скучно [49].
В ту пору Софья Андреевна еще верила, что речь идет об очередном временном зигзаге в биографии мужа, поскольку давно привыкла к его «переменчивым мнениям». Новый кризис угрожал самым основаниям ее существования. Она чувствовала, что сострадание его мужа бедным и обездоленным подрывает ее положение в его душе и его жизни:
Я часто думаю, отчего Левочка поставил меня в положение вечной виноватости без вины? Оттого, что он хочет, чтоб я не жила, постоянно страдала, глядя на бедность, болезни и несчастия людей, и чтоб я их искала , если они не попадаются в жизни. То же он требует и от детей. Нужно ли это? ‹…› Если случится на пути такой больной, то пожалей и помоги ему, но зачем искать его, (СТ-Дн., I, 112) –
записала она в дневник в октябре 1886 года. Софье Андреевне трудно было осознать, насколько естественно образ жизни ее мужа, вызывавший у нее столь сильное отторжение, вытекал из природы его художественного дара, которому она была готова преданно служить. За письменным столом он вырабатывал свою уникальную способность вживаться в другого человека и понимать его душу, и эта способность парализовала в нем работу обычного защитного механизма невосприимчивости к чужому горю. Дневники и записные книжки Толстого этих лет переполнены почти ежедневными упоминаниями о голодных, нищих, больных и гонимых. Он был со всех сторон окружен зрелищем человеческих страданий. Едва ли он «искал» таких случаев, скорее – потерял спасительную способность не замечать их.
Простые люди с их проблемами сами искали Толстого. Среди них были отнюдь не только просители, стремящиеся поделиться своей бедой и получить практическую или душевную поддержку. В Ясную Поляну и дом Толстых в Хамовниках потянулись крестьяне, разочарованные в официальной церкви, преследуемые сектанты, самопровозглашенные пророки, странники и бродяги, мечтавшие поговорить с графом о Боге, нравственности и любви. Софья Андреевна презрительно прозвала их «темными». И она, и Александра Толстая вспоминают тверского крестьянина Василия Сютаева, который проповедовал братство между людьми и отрицал частную собственность, церковные ритуалы и образовательные учреждения. По словам обеих мемуаристок, беседы с ним произвели на автора «Войны и мира» сильнейшее впечатление.
Впрочем, самый важный гость, когда-либо посетивший Толстого, был выходцем из того же социального круга, что и он сам. Владимир Григорьевич Чертков принадлежал к сливкам русской аристократии и был очень богат. Как и подобало молодому гвардейскому офицеру, он вел рассеянный образ жизни, пока не покаялся и не начал заниматься обучением крестьян и благотворительностью. Около года он провел в Англии и сблизился с английскими евангелистами. Когда Чертков в первый раз пришел к Толстому, ему было 29 лет. Оставшиеся 53 года жизни, поделенные ровно пополам смертью учителя, он занимался распространением трудов Толстого и пропагандой его взглядов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу