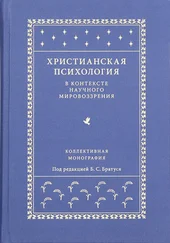9
Отсюда – и само время приобретает в романе не-о: классическую объемность – прежде всего амбивалентного прошлого: настоящего – что особенно ярко запечатлелось в рассказе «Гипсовый трубач» (см. гл. «Гипсовый трубач»). Да и психология едва ли не каждого заметного персонажа получила ретроспективно: онтологизированное измерение. Без, скажем, прустовских однозначно-модернистских к-рай-ностей субъективизма.
Это позволило Ю.М. Полякову вновь органично и зиждительно посмотреть на сегодняшнюю Россию в целом – при всей ее, казалось бы, «безупречной» обреченности (подобный пессимизм наиболее наглядно и – эсхатологизированно сказался в гл. «Зилоты добра»). Я бы здесь уточнил вслед за Ж. Бодрийяром – при всей ее гиперреальной: «нормальности» – исчезновения…
И именно историческая: в первую очередь победоносно-советская – протяженность нашего социального бытия дает автору «Гипсового трубача» надежду на успешный исход из «капиталистического коммунизма» с «гастрономической» составляющей – особенно противной «лютой покорности дворни» (см. гл. «Человек-для-смерти» и «Профессия хороший человек»)…
Да, Ю.М. Поляков приницпиально и н-е-а-суще далек от всякого непротиворечиво: серьезного (=«патриотического») или игривого (=«либерального») – скудоумия нынешних политоло́хов – он прозревает ключевую причину гибели СССР: антиимперское «восстание озверевших потребителей» (см. гл. «Змеюрик, его друзья и враги»; «Слезы императрицы») – которые весьма результативно и быстро построили как раз супертотальную: гиперреальность – РФ… Но в том-то и дело, что слишком отвратительна, слишком паскудна, – слишком продажна она – тем прода́-ва́-жнее, тем пова-плен-нее, тем гламурнее пиарится. Цепляясь, отчаянно и цинично цепляясь за диалектически: демо́нократи́ческую! – перспективу «экологически чистого» «навоза» – «может, потом, лет через двести, вырастет [на нем] что-нибудь приличное!» (см. гл. «Зилоты добра»). Чем не пос тмарксистски=постмодернистская программа строительства «коммунизма» для обыдленных масс?! При коммунизме уже настоящем: для олигархов?! С беспредельно=официозным удовлетворением их потребностей, и – без всяких «совковых» способностей… Но слишком, слишком подло сие – хотя и подл-ИНН-о «в законе» (см. гл. «Зилоты добра»). Хотя и «в натуре» едва ли не общечеловечески: потребительской. И буквально антропофагической!
Даже русский язык сопротивляется «потребительству» с откровенно «истребительными» коннотациями. Сопротивляется ему и Россия, да, пока тоже преимущественно «навозно» и – с кладбищенским шиком: небытия. При утешительно=«духовном» прилепинском тождестве с у-НИКА-льным «бытием»…
Но такова ныне только одна – пусть и самая модная – ус-пеш-еч-ная! – будущность страны с ее, право же, новыми: внавь-и-внавь – е-ре-алис-тичными глашатаями. И «нормально»=эсхатоло́хи́ческим бызысходом=исходом – под «классическую» стать просто гиперреальности…
Есть, точнее, есть и не есть зараз: н-есть – и другая – прямо-противоположно: эсхатологическая перспектива – в неслиянном и н-е-а-сущем единстве с прошлым (=имперским): настоящим (=пиаро=«демократическим»). С не-пред-ви́-да́н-n-ой по-бедой: поражением – «животворного (подч. мной – П.К.) русского бардака» (см. гл. «Кто же отец?»), питающего: «безумно»: антиномично: истинно – нашу адекватную, но – не уловимую, но – не управимую никакой, получается, уже и не гиперреальностью! – действительно нашу – оригинально: креационистическую – реальность. Со всем ее энциклопедическим и – спасительным множеством: полибытия. С ее сугубо: русским и – имперским, и – православно: халкидонским «символическим обменом», который, «естественно», и не предполагал слишком бессознательно: зауженный – по-европейски – Ж. Бодрийяр. Который – с гомеостаз-n-о-рганич-n-ым и – у-то-n-ым дерзновением смертника: творца – выразил: и на-яву – не в «общепринятом», как сказал бы В.В. Набоков, мире! – Ю.М. Поляков…
II
О победоносной народности не-о: классического поляковского реализма
10
Да, нас, будем считать, со времен Ю.В. Андропова преследует стойкое незнание того конкретного окреста, в котором мы живем. И чем больше, чем «прогрессивнее» становится это невежество, тем чаще, тем заклинательнее заводятся речи о нашем формационно-цивилизационном: социально-политическом – экономическом – или литературно-художественном реализме. Не важно, в прагматично-рыночной, неоколониально-кризисной или «новой» и даже «метафизической» упаковке… Главное – воистину Я-зычно: со всякостным гума́ну́сноантропоцентрическим самовыражением…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Коллектив авторов Испытание реализмом [Материалы научно-теоретической конференции «Творчество Юрия Полякова: традиция и новаторство» (к 60-летию писателя)] обложка книги](/books/402269/kollektiv-avtorov-ispytanie-realizmom-materialy-nauchno-teoreticheskoj-konferencii-tvorchestvo-yuriya-polyakova-tradiciya-i-novatorstvo-k-60-letiyu-pisatel-cover.webp)