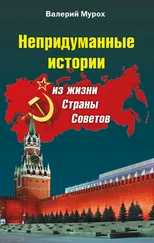Это письмо (и свои вещи) я посылаю именно вам, тов. Воронский, потому что знаю, что вы достаточно крупны, чтобы (при желании и при уверенности, что это нужно русской литературе) – сказать своё – ЗА наперекор маленьким ПРОТИВ.
Конечно, всё письмо имеет смысл только в том случае, если будет эта уверенность или попросту: если вы сочтёте значительным то, что я вам посылаю (в последнем случае распоряжайтесь материалом на предмет печатания по своему усмотрению).
Я буду вам очень признателен, если вы мне ответите лично несколькими строками, не откладывая в долгий ящик.
Крепко жму вашу руку А. Мариенгоф
После звонка по телефону я заходил в “Красную новь”, но у вас была такая весёлая толчея, что убоялся за свой язык, который мог недостаточно развязаться, – и поэтому написал то, что намеревался сказать». 273 273 Письмо Мариенгофа хранится в ИМЛИ РАН. Ф. 62. Оп. 1. Ед. хр. 9.
Ответ Воронского неизвестен, но отреагировал главный редактор «Красной нови» вполне ясно: вскоре в его журнале появилась рецензия Льва Повицкого на последнюю книгу Анатолия Борисовича: «Нет имени в стане русских певцов и лириков, которое вызывало бы столько разноречивых толков и полярных оценок, как имя Мариенгофа» 274 274 Повицкий Л. Новый Мариенгоф // Красная новь. 1926. № 11. С. 242.
. В переводе с русского на русский это значит, что Мариенгоф действительно стал политически одиозной фигурой и его появление на страницах советской печати нежелательно.
Помимо стихов, Мариенгоф написал и «Воспоминания о Сергее Есенине». Тоненькая брошюрка, полная горячей любви. Заканчивается, правда, она на 1922 годе, на разрыве отношений, на ссоре: «По возвращении “наша жизнь” оборвалась – “мы” раздвоились на я и он».
Мариенгоф остановился на самом главном. Дальнейшее в судьбе Есенина – либо пьяные скандалы и суды, о которых Анатолий Борисович не хотел вспоминать, либо нечто иное, о чём он мог только догадываться.
Современники встретили «Воспоминания» дружелюбно и поспешили наваять что-то подобное. Каждый хотел прикоснуться к поэту – к памяти о нём. Писали сладкоречиво, на патоке и елее, величали гением из гениев, лили безутешные слёзы. Ладно бы это делали друзья, близкие или, скажем, товарищи по перу, так нет же – пишут товарищи по бутылке, да и просто первые встречные.
Была и другая категория – люди, с которыми Есениным пройдено немало дорог, вдруг ударялись в филологию. Вот, например, Пётр Орешин:
«…он был очень большой и настойчивый говорун, и говор у него в ту пору был витиеватый, иносказательный, больше образами, чем логическими доводами, легко порхающий с предмета на предмет, занимательный, неподражаемый говор. Сам он был удивительно юн. Недаром его звали – Серёжа. Юношеское горение лица не покидало его до самой смерти. Но пока он кудрявился в разговорах, я успел сообразить кое-что такое, чему невозможно было не оправдаться. Я понял, что в творчестве Сергея Есенина наступила пора яркого и широкого расцвета. В самом деле, до сей поры Есенин писал, подражая исключительно Клюеву, изредка прорываясь своими самостоятельными строками и образами. У него была и иконописная символика, заимствованная через Клюева в народном творчестве…» 275 275 Орешин П. Моё знакомство с Сергеем Есениным // Красная нива. 1926. № 52. 26 декабря.
Уж казалось бы – соратник, друг, должен писать про поэтову забубённую юность. А он выводит какой-то сусальный образ. Как говорил сам Есенин: «Плакать хочется!..»
Один за другим выходят несколько сборников «Памяти Есенина», и нигде нет ни строчки Мариенгофа. Дело ли это? Необходим был ответ – жёсткий, серьёзный, может быть, резкий, чтобы вся эта позолота, все эти искусственные камни слетели с есенинского памятника; необходимо было показать живого человека.
Мысли о большом прозаическом и мемуарном тексте посещали Мариенгофа уже в 1924 году. Всё-таки он немало покутил в своей молодости, знал великое множество «бессмертных» и «гениев». Было о чём рассказать.
Нет, жизнь не лёгкий чемодан.
Любовь, ты никогда не канешь в Лету
Когда-нибудь я напишу роман
О девах и поэтах.
И такой роман появился.
Книга получилась злой, едкой и колкой. В некоторых местах даже циничной.
Было задето самолюбие Мариенгофа. Как только его имя ни склоняли, а его детище – имажинизм – «скидывали с парохода современности» какие-то уж совсем бездарные люди, мало понимающие в поэзии. Как тут было не разозлиться? Да ещё эта мерзопакостная статья Лавренёва…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
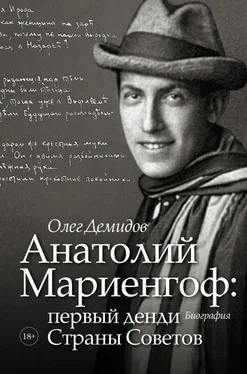
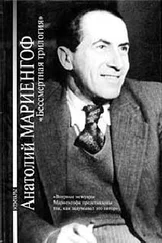
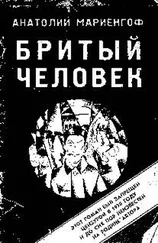


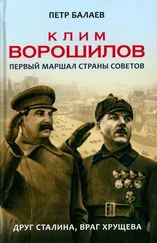

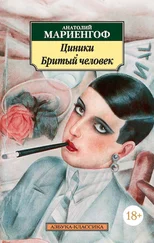

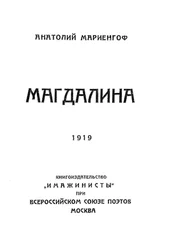
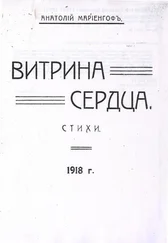
![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)