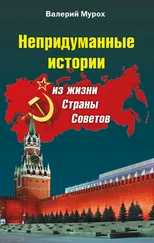В «Современной России» вышли книги Сергея Есенина («О России и Революции» и «Персидские мотивы»), Анатолия Мариенгофа («Новый Мариенгоф»), Николая Савкина (поэма «Бурлак» и сборник стихов «Багровые васильки»), Тараса Мачтета («Коркин луг»), Николая Минаева («Прохлада»), Ивана Грузинова («Избяная Русь» и «Малиновая шаль») и многих других поэтов. В 1925 году планировалась антология: Александровский, Грузинов, Есенин, Казин, Приблудный, Рождественский, Савкин, Тихонов, Эрдман, Якулов. Но издание не состоялось.
Однако откуда появились деньги на издательство?
Николай Савкин, который стал руководить «Современной Россией», до этого был заведующим кафе имажинистов «Стойло Пегаса» и редактором их же журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Оба дела прогорели.
Галина Бениславская вспоминала: «Он систематически не давал денег, причитавшихся Сергею со “Стойла”, затеял “коммерческую операцию” – закрыл “Стойло” и открыл театр – и кончил крахом. Мы думали, что всё идёт ему в карман, кажется же, в данном случае всё утонуло в театре (ремонт и проч.)» 249 249 Цит. по: Шубникова-Гусева Н.И. Сергей Есенин и Галина Бениславская. С. 303.
.
История эта туманная. Всех деталей не рассмотреть. Но когда продали «Стойло Пегаса», каждый из пайщиков получил свою часть и потратил сообразно с его представлениями о вкладах. И Савкин, и Грузинов, и Есенин, видимо, решили открыть новое издательство. Вкладывался ли Мариенгоф? Вряд ли.
К 1927 году и это дело сошло на нет.
В двадцатых Мариенгоф с Никритиной трижды выезжают за границу. Первый раз – летом 1924 года – поэт везёт свою «актрисульку» сначала в Берлин, а после в Париж.
«В 1924 году я был в Париже. Как-то целый день пробродил с Кусиковым по Версальскому парку и Трианону. Устали чудесной усталостью. Ужинали в полумиле от Версаля в маленьком ресторанчике». 250 250 «Роман без вранья». С. 615.
С тем же Сандро Бейбулет Ку 251 251 Любопытно отношение Анны Никритиной к Александру Кусикову. В письме к Гордону Маквею от 15 марта 1976 года она писала: «…даже в 1927 году мы были с Мариенгофом в Париже, и там с ним встречались. Его никто не любил и называли “казал мазал”. Он всегда заводил какие-то сплетни. Считали его черкесом, а так ли это точно, я не знаю, да и не интересовалась». И в другом письме (от 10 мая 1976): «Конечно, в 24-м году мы были вместе с Мариенгофом в Париже и много встречались с Кусиковым. Он жил в семье, дружил с работником нашего посольства или торгпредства, я уже не помню. Он что-то писал – я уже не помню что. Но, по-моему, бывал в нашем посольстве. Если бы было что-нибудь нелегальное, мы бы с ним не встречались ни в 24-м, ни 27-м году. Выглядел он хорошо. “Казал мазал” – это если человек любит передавать сплетни. Придёт и скажет: кто-то так плохо о тебе говорил, а я так тебя защищал. И непременно испортит тебе настроение».
(как Кусикова звал Вадим Шершеневич) Мариенгоф посещает «Олимпийский бал» дадаистов (Тристан Тцара, Луи Арагон, Андре Бретон, Марсель Дюшан, Поль Элюар). Эти французские поэты очень были похожи на отечественных ничевоков – отрицали всё подряд: от норм морали до норм стихосложения. Когда к ним присоединились эмигранты из России (Илья Зданевич, Сергей Шаршун, Сергей Ромов, Александр Гингер и другие поэты, примыкавшие к группам «Через» и «Гатарапак»), дадаисты начали устраивать перфомансы. На слуху были вечера под названием «Вы все идиоты» и «Дадафон». На них (и вообще на подобных вечерах) французские поэты кидались едой в зрителей, читали лёжа на столе ресторанное меню на манер стихов, устраивали танцы в костюмах, «независимых от тела», и т.д.
Естественно, что со временем публика охладела к наглым выходкам дадаистов. Пришлось идти на хитрость – и устраивать вечера обычной поэзии, да ещё при участии мировых знаменитостей. Собирались пожертвования, которые тут же тратились либо на издание новых книг, либо на организацию следующего мероприятия. Такие вечера пышно звали балами. Были и «Трансментальный бал», и «Банальный бал» – и «Олимпийский бал», на котором выступали со своими стихами Александр Кусиков и Анатолий Мариенгоф.
Второй раз за границей наш герой был в Берлине (жена же успевает посетить ещё Вену и Гамбург) осенью 1925 года. Но описание этой поездки так или иначе совпадает с 1924 годом: тот же бомонд, те же ресторанчики-кабачки да вдобавок постные физиономии немцев.
«Мой друг, бывший артист Камерного театра, а теперь театра Макса Рейнхардта, Владимир Соколов ставил в Берлине на немецком языке с крупными немецкими актёрами “Идиота” по Достоевскому.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
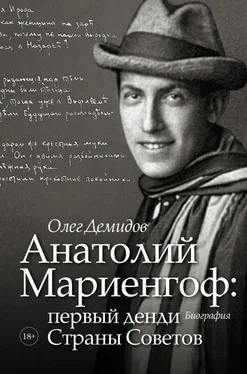
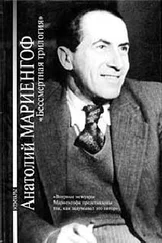
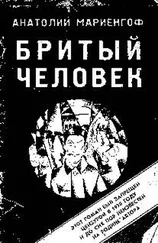


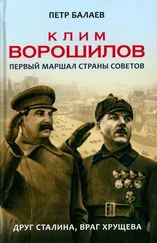

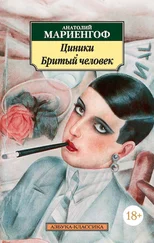

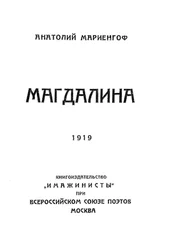
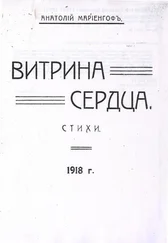
![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)