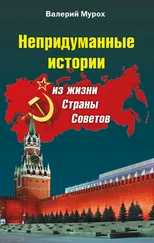Тем временем работа над пьесой о Лермонтове кипит, но возникают некоторые проволочки. Советский драматург должен был следовать определённым канонам: отражая реалии прошлого, показать актуальность классических произведений и классиков русской литературы для настоящего. Но слишком прямолинейные решения не устраивают Мариенгофа:
«Почитываю для пьесы и злюсь на Шлепянова, – пишет он жене. – Всё это только во вред моему “Рождению”. С таким чувством, конечно, работать нельзя!.. Мне мой “Лермонтов” дорог, написан он точно, верно, всё, о чём болтает Шлепянов, в нём имеется, – это существо пьесы… а его интермедии ( 10 !) вздор! Старомодная киношная белиберда в театре. Просто не знаю, чем кончится дело… Он упрям, а я, оказывается, тоже упрям…»
Но и с этим всё утрясётся. Упрямство – большая сила. Название появилось сразу, Мариенгоф в нём и не сомневался: «Рождение поэта».
Вспоминается случай на одной из встреч Мариенгофа с читателями:
«На литературном вечере в Вятке мне из публики бросили записку: “Товарищ Мариенгоф, скажите – поэтами родятся или делаются?” Я скаламбурил: “Сначала делаются, а потом родятся”».
Так и в пьесе. Юный Михаил Лермонтов пишет стихотворение «На смерть поэта» – разразился скандал, из которого и родилась большая поэзия.
К концу июля пьеса готова в черновом варианте и уже гуляет по рукам отдыхающих в Комарове. Все хвалят. И недоумевают от идеи Шлепянова вставить в пьесу десять интермедий – чушь, да и только.
В редакции издательства и в театре «Рождение поэта» также пришлось по душе. И что самое интересное – писал пьесу о Лермонтове и закадычный враг Мариенгофа Борис Лавренёв. Тот самый, который после смерти Есенина плевался со страниц газеты фразочками типа «казнённый дегенератами» и приписывал имажинистам спаивание великого поэта. Но прошли годы, и в литературной битве Мариенгоф обставил «коллегу».
Уже в июле в издательстве «Искусство» пьеса выходит отдельной книгой. Позже её переиздадут в 1957 году вместе с «Шутом Балакиревым». Успех она будет иметь огромный.
Приехав на очередной курс лечения в Пятигорск, Мариенгоф зайдёт в дом-музей Лермонтова, и там его примут по высшему разряду, «как воскресшего из мертвых Мишеля». Девушка-экскурсовод проведёт и по дому, и по всем пятигорским местам и обрадует старого драматурга: в местной газете печатали отрывки из «Рождения поэта», а по радио передавали запись спектакля. Чудо, да и только!
Мариенгофа часто упрекали, что он далёк от народа и не может писать в духе соцреализма. А Анатолий Борисович почти и не писал, зато много думал над этим. Из Пятигорска он шлёт жене «цидульку»:
«Приехал я вчера и <���…> меня поселили на квартире. Славно поселили! У 65 -летней сверхинтересной матроны – волосы, как у Казики, брови, как у берлинского папаши, бакенбарды, как у Пушкина, и чёрные усы, как у Лермонтова. А разговаривает, как графиня Шерер у Л.Н.Толстого. Салют! Салют! Она сразу же угостила стаканом хорошего кофе, куличом и двухчасовым солёным разговором. Когда я её поблагодарил, она спросила: “А, собственно, за что? За кофе?” Ну, разумеется, я отвечал в том же светском духе: “Это уже во вторую очередь. А прежде за интересную беседу”. И моя древняя армянская пятигорская докторская гр. Шерер была удовлетворена. Сосед у меня по комнате инженер, конструктор, теперь житель Пятигорска, удрал из Ростова от несчастной любви своей несносной жены, которую, по уверению моей гр. Шерер, он продолжает любить.
Инженер тактичный, любезный, нервный (но без выплесков), вполне интеллигентный, но скучный… Уходит он на службу в 8 ч. утра, и я до 6 один в комнате. Великолепно!
<���…> Завтрак обычный санаторный… разумеется, скучный. Вроде моего соседа.
<���…> Моя армянская Шерер и мой инженер… “типичное не то”. А где же, чёрт возьми, это “типичное то”?!.»
Он искал своего героя и среди рабочего класса, но не мог найти. Во-первых, редко на его пути попадались обычные люди, что гуляют по романам классиков соцреализма, – всё сплошь армянские матроны, писатели, артисты, литературоведы и прочая богема. Про них Мариенгоф и писал. Во-вторых, если и попадался ему скромный рабочий – «тактичный инженер», – то он оказывался невыносимо скучным. Не складывалось у Анатолия Борисовича с соцреализмом.
«Умел ли царь Николай I играть на флейте?»
И вновь одна из лучших пьес Мариенгофа оказывается в поле внимания неадекватной критики. На этот раз действуют «Советское искусство» и «Крокодил». Оба издания наряду с «Литературной газетой» и «Вечерним Ленинградом» давно были замечены в травле писателей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
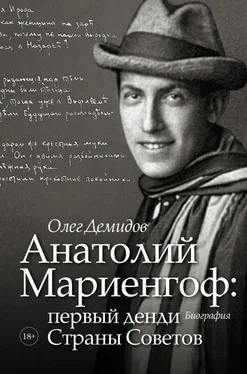
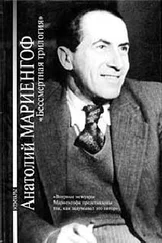
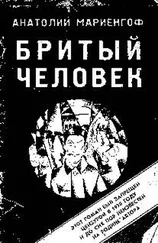


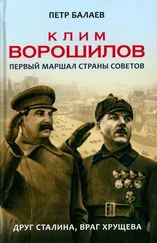

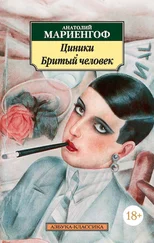

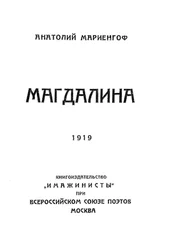
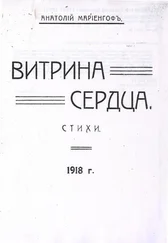
![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/409199/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj-thumb.webp)