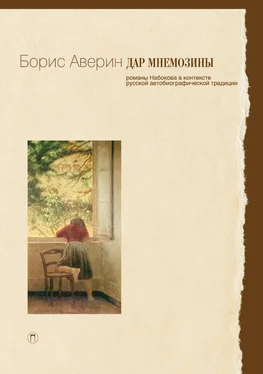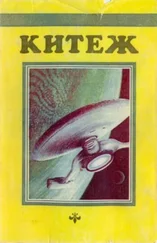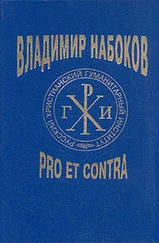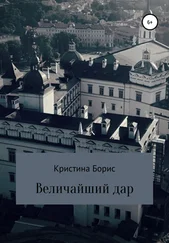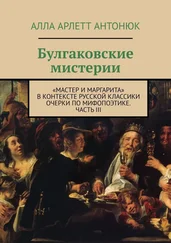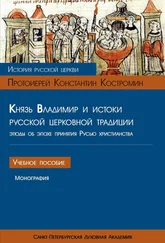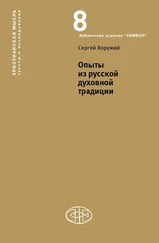Владислав Ходасевич в «Некрополе» описал, с каким восторгом он слушал мемуарные рассказы Максима Горького, всегда звучавшие как спонтанная импровизация. Но нечто странное всегда происходило при этом: часть слушателей старалась незаметно покинуть комнату. Лишь позже Ходасевич понял, что рассказы Горького были не вдохновенными импровизациями, а многократно обкатанными текстами, которые исполнитель повторял слово в слово, а завсегдатаи его дома знали едва ли не наизусть.
При всем блеске воспоминаний Горького (а именно из них и сложилась его автобиографическая трилогия, сочувственно упоминаемая Набоковым в лекциях по русской литературе), они имеют один важный, но не сразу осознаваемый недостаток, свойственный большинству мемуаристов. События личной жизни постепенно укладываются в определенный набор организованных по художественному принципу эпизодов, соединение которых в общий хронологический ряд и создает картину жизни.
За рамками такой завершенной картины остается слишком многое. Этот способ просто не позволяет вспомнить то, что некогда не вошло в первоначально оформленный рассказ. Неизменное повторение пожилым человеком одних и тех же эпизодов и случаев – закономерный итог подобного рода мемуаров. В них отсутствует не только импровизация. В них отсутствует настоящее, из них исчезает живое время – то время, когда длится рассказ, а следовательно, исчезает и автор как живая – в настоящий момент живая – личность. Все оставлено в прошлом.
Воспоминание в интересующем нас аспекте трактуется как нечто противоположное завершенному рассказу о прошлом, рассказу, в котором прошлое получает определенные очертания, предстает как зафиксированная данность. Перефразируя В. Гумбольдта, можно сказать, что воспоминание для той литературной (и философской) традиции, с которой связан Набоков, – процесс, а не результат. Если «автобиография-результат» (как и всякий результат) может существовать как реальность, отчужденная от вспоминающего, и от этого ее ценность не понижается, то воспоминание в набоковском смысле есть неотчуждаемо личностный акт, оно непременно живое, непосредственное и актуальное. Оно совершается не для того, чтобы закрепить то или иное содержание прошлого – но для того, чтобы сообщить прошлому экзистенциальный статус, равный статусу настоящего. Именно поэтому во многих набоковских сюжетах прошлое вплотную придвинуто к настоящему. Ни дневниковые записи, ни мемуары, в которых зафиксировано прошлое, не решают этой задачи. Необходимо живое воспоминание, при котором прошлое переживается с такой же непосредственностью, как настоящее, так же неотчуждаемо, как мгновения настоящего. Понятно, что подобное воспоминание является чрезвычайно напряженным духовным актом, который включает и припоминание того, что было забыто и утрачено навсегда.
Итак, качество, которое отличает родственную Набокову традицию автобиографической прозы (или поэзии) – это присутствие в тексте, в его разворачивании и предъявлении воспоминания как живого акта, как актуального процесса, не завершенного до написания текста, а развивающегося вместе с ним. Такое воспоминание всегда теснейше сопряжено с самопознанием, которое тоже осуществляется вместе с созданием текста – а не предшествует ему, не отливается в готовую концепцию, подчиняющую себе движение повествования (как в трилогии Льва Толстого).
Этого критерия достаточно, чтобы выделить те произведения русского автобиографического творчества, которые для набоковской темы памяти составляют ближайший историко-литературный контекст. К их числу прежде всего относятся «Котик Летаев» Андрея Белого, «Младенчество» Вячеслава Иванова, «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина. Каждому из этих произведений нам предстоит посвятить особый раздел работы – там и будет аргументирована их соотнесенность с набоковским творчеством.
Несомненной близостью к тому же контексту отличается проза Ремизова с ее «панавтобиографизмом» [34], с неустанной работой творческой памяти, которая «позволяет писателю выйти за пределы не только настоящего, но и определенного ему судьбой исторического времени» [35]. Но память у Ремизова поглощается иной инстанцией – инстанцией легенды и мифа: «Всякая человеческая жизнь великая тайна. И самые точнейшие проверенные факты из жизни человека и свидетельства современников не создают и никогда не создадут живой образ человека: все эти подробности жизни – только кости и прах. Оживить кости – вдохнуть дух жизни может легенда, и только в легенде живет память о человеке» [36]. Отчасти по этой причине, отчасти же потому, что рамки исследования поневоле должны быть так или иначе ограничены, монографическому анализу будут подвергнуты только три произведения: Белого, Иванова и Бунина, хотя их именами интересующая нас традиция не исчерпывается. К ней же можно было бы отнести поздние незаконченные воспоминания Л. Толстого, с известными оговорками – автобиографическую поэзию Блока, автобиографическую прозу Пастернака, Пришвина или Зощенко. Но в качестве предмета для пристального внимания мы выбрали тех авторов и те тексты, которые, на наш взгляд, достаточно репрезентативны и дают выразительное представление о том русском контексте, с которым соотносится автобиографическая тема в романах Набокова.
Читать дальше