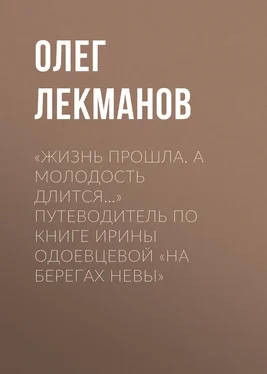В добавление сообщаю, что я действительно сказал Вячеславскому, что могу собрать активную группу из моих товарищей, бывших офицеров, что являлось легкомыслием с моей стороны, потому что я встречался с ними лишь случайно и исполнить мое обещание мне было бы крайне затруднительно” (373, с. 83).
Другое дело, что участие Гумилева в контрреволюционной деятельности, если оно и имело место, то, во-первых, было кратковременным (после поражения Кронштадтского восстания поэт свернул заговорщицкую активность), а во-вторых, носило исключительно символический характер. На все это совершенно справедливо и указал в своем, составленном 19 сентября 1991 г., “Протесте (в порядке надзора) по делу Гумилева Н.С. ” тогдашний Генеральный прокурор СССР Н.С. Трубин. Приведем здесь фрагмент этого документа (отстраняясь от содержащихся в нем оценочных характеристик):
“Согласившись участвовать в контрреволюционном заговоре, Гумилев затем добровольно отказался от доведения преступного замысла до конца, о чем свидетельствуют его показания: «С тех пор ни Вячеславский, никто другой с подобными разговорами ко мне не подходил и я предал все дело забвению» (л.д. 83).
О добровольном отказе Гумилева выполнить данные представителю ПБО обязательства свидетельствует прежде всего его абсолютное бездействие по объединению антисоветски настроенных граждан для участия в каком-либо заговоре, хотя никаких не зависящих от него обстоятельств, способных помешать этому, не было.
Из имеющихся в деле материалов не вытекает, что Гумилев, как это указано в обвинительном заключении, являлся активным участником ПБО. Нет в деле данных и о том, что он принимал участие в составлении прокламаций контрреволюционного содержания, не доказана и какая-либо другая его практическая антисоветская деятельность.
После дачи согласия Вячеславскому Гумилев никакой работы в контрреволюционной организации не проводил и в ней не состоял.
Об этом свидетельствует и тот факт, что Гумилеву даже не были известны подлинные фамилии представителей организации, которые встречались с ним и предлагали участвовать в контрреволюционном мятеже. Кроме того, со стороны Гумилева отсутствовала всякая инициатива, направленная на организацию встреч с представителями ПБО.
Что же касается получения Гумилевым денег от Вячеславского, якобы для организации мятежа, то этот факт носит лишь символический, условный характер и не может быть положен в основу вины Гумилева. Согласно прилагаемой к протесту справке Управления эмиссионно-кассовых операций Государственного банка СССР, исходя из соотношения реальной ценности денег, 200 000 руб[лей] на 1 апреля 1921 г[ода] соответствовали всего лишь 5,6 руб[лям] 1913 года. В связи с исключительно низкой покупательной способностью денег в период получения их от Вячеславского Гумилев не мог приобрести на них даже простейшие технические средства для напечатания прокламаций или другие предметы для предполагаемых участников заговора. Эти факты сознавались Гумилевым и Вячеславским и обсуждались во время их встречи. (л.д. 84).
При оценке всех имеющихся в деле доказательств невиновности Гумилева обращают на себя внимание его показания о полученных от Вячеславского деньгах, где он говорит: «…я держал их в столе… ожидая… прихода Вячеславского, чтобы их вернуть» (л.д. 83). Эпизодическая, односторонняя связь, установленная членами ПБО с Гумилевым, лишала его возможности вернуть Вячеславскому деньги. Других же участников контрреволюционной организации Гумилев не знал.
При таких обстоятельствах выводы президиума Петроградской губернской Чрезвычайной комиссии о виновности Гумилева в «…получении от контрреволюционной организации денег на технические надобности» не основаны на имеющихся в деле доказательствах” (373, с. 88).
Этот протест послужил основанием для реабилитации Гумилева “за отсутствием состава преступления” судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РСФСР 30 сентября 1991 г. (там же).
С. 337 …в кронштадтские дни… – Речь идет о вооруженном восстании в марте 1921 г. гарнизона крепости Кронштадт и экипажей кораблей Балтийского флота против политики “военного коммунизма”, насаждаемой большевиками. После подавления восстания 18 марта начались жестокие репрессии – более 2000 человек было приговорено к расстрелу. Подробнее см., например: 176.
С. 338 …Георгий Иванов, пришедший с Каменноостровского… – Сравните в мемуарах Г. Иванова: “Под грохот кронштадтских пушек я прогуливался по Каменноостровскому. Да, прогуливался. Погода была прекрасная, почему бы мне было и не прогуляться? Конечно, в Кронштадте шло восстание, конечно, по улицам шатались дозоры чекистов, конечно, в домах по ночам проводились повальные обыски, и после шести вечера нельзя было без пропуска никуда выходить. Но все это было бы очень мучительно и жутко, если слышать рассказы об этом или читать в книге. Была сама реальная действительность, в которой мы все были принуждены жить и уже несколько лет подряд жили, и воспринималась она поэтому вполне обыденно” (157, т. 3, с. 369).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу