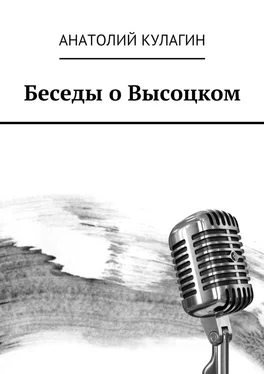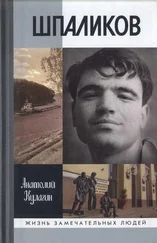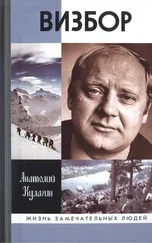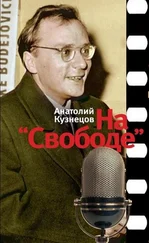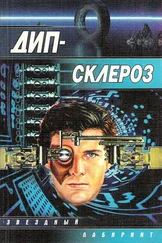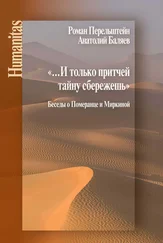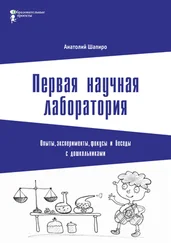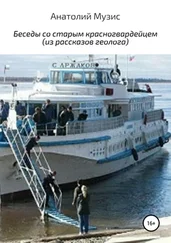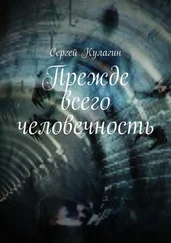Мы Шиллера и Гёте не читали —
Мы этих дураков давно узнали.
Раза два их почитаешь —
Так, зараза, хохотаешь,
Ничего в дугу не понимаешь.
Кажется, именно эти – а может быть, не только эти – строки вспоминались Высоцкому или хотя бы подсознательно отозвались, когда он сочинял полушутливую-полусерьёзную «Песню космических негодяев» 1966 года (в эту пору поэт увлекался чтением так называемой научной фантастики – в частности, прозы братьев Стругацких). Мотивы классической культуры пригодились ему при создании образа неких космических колонизаторов, бездумно покоряющих пространство:
Мы не разбираемся в симфониях и фугах,
Вместо сурдокамер знали тюрем тишину,
Испытанье мы прошли на мощных центрифугах —
Нас вертела жизнь, таща ко дну.
Эти строки Высоцкий со временем исключил из песни, но это могло быть сделано из автоцензурных соображений. Часто выступавший на публике поэт, с точки зрения властей и без того сомнительный и неблагонадёжный, не хотел лишний раз «дразнить» их упоминанием о тюрьмах – эта тема была запретной, как запретными были в советское время темы наркомании или проституции. Властям было проще делать вид, что таким проблем в обществе нет. Это нараставшее с годами противоречие между парадной видимостью и реальной сущностью и стало в итоге одной из важнейших причин краха всей советской системы.
В общем, Высоцкий стал петь песню без этих строк, хотя они по-своему выразительны и указывают на источник традиции, на которую поэт в данном случае опирается.
Уличный фольклор ценили и другие барды. Его интонации заметны и у Анчарова («С марухой-замарахой // Он лил в живот пустой // По стопке карданахи, // По полкило „простой“»), и у Окуджавы («А нам плевать, и мы вразвалочку, // покинув раздевалочку, // идём себе в отдельный кабинет»). Авторская песня испытала заметное влияние и фольклора туристского, студенческого, но для Высоцкого эта традиция, кажется, не столь значима, как, например, для Юрия Визбора или ленинградца Юрия Кукина. Первый из них, кстати, учился в Московском государственном педагогическом институте, ставшем своеобразной колыбелью авторской песни – оттуда вышли ещё Ада Якушева, Юлий Ким, Борис Вахнюк, из тех, кто учился позже, – Вадим Егоров, Вероника Долина…
Ощутимо повлияло на Высоцкого и на авторскую песню в целом творчество Александра Вертинского – поэта Серебряного века, исполнявшего свои стихи (он называл их ариетками) со сцены под аккомпанемент рояля. Многие считают Вертинского родоначальником авторской песни. Ещё на заре столетия, за полвека до бардовской «волны», он воспел мир души обычного человека, пусть и изображённого в какой-нибудь экзотической обстановке. Например, в песне «Лиловый негр» есть «китайчонок Ли», некий «португалец» с «малайцем», «притоны Сан-Франциско», но главное – неподдельное и чистое чувство к женщине, не заглушаемое ни экзотикой, ни, заметим, лёгкой иронической интонацией:
В последний раз я видел вас так близко.
В пролёты улиц вас умчал авто.
Мне снилось, что теперь в притонах
Сан-Франциско
Лиловый негр вам подаёт манто.
Эти строки звучат в фильме «Место встречи изменить нельзя»: их напевает герой Высоцкого – капитан уголовного розыска Глеб Жеглов. В поэзии самого Высоцкого строки Вертинского нет-нет да и отзовутся. Например, в 1962 году молодой актёр, находясь на гастролях в Свердловске (советское название Екатеринбурга) в составе труппы московского Театра миниатюр, где он недолгое время работал, в письме к своей тогдашней жене Людмиле Абрамовой приводит собственное шутливое четверостишие:
Как хорошо ложиться одному —
Часа так в 2, в 12 по-московски,
И знать, что ты не должен никому,
Ни с кем и никого, как В. Высоцкий.
Это, конечно, парафраз строк известной песни Вертинского «Без женщин»:
Как хорошо проснуться одному
В своём весёлом холостяцком «флете»
И знать, что ты не должен никому
Давать отчёты – никому на свете!
Налицо сходство и стихотворного размера (пятистопный ямб с перекрёстным чередованием мужских и женских рифм), и интонации, и, главное, поэтического смысла. Любопытно, что чуть раньше, в 61-м году, те же строки Вертинского отозвались в стихах другого начинающего поэта – Иосифа Бродского: «Как хорошо, что никогда во тьму // ничья рука тебя не провожала, // как хорошо на свете одному // идти пешком с шумящего вокзала» («Воротишься на родину. Ну что ж…»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу