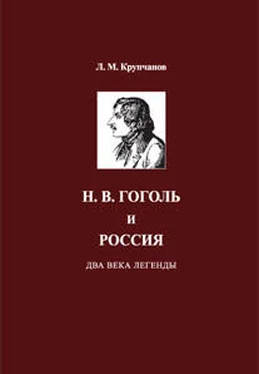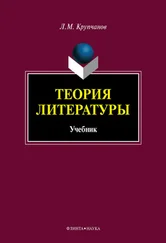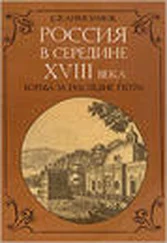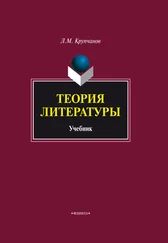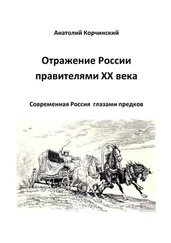Молодому Гоголю не откажешь в понимании основного смысла социально-экономических процессов, происходивших в России, хотя, может быть, он несколько преувеличивал значение субъективного – индивидуального фактора. В одном из своих писем он писал И. И. Дмитриеву о положении народа его любимой Украины. «Что бы, казалось, недоставало этому краю? – спрашивает он. – Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплатные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленивил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, умирает, а они рыскают с горя за зайцами. Признаюсь, мне очень грустно было смотреть на расстроенное имение моей матери; если бы одна только лишняя тысяча, оно бы в три года пришло в состояние шестерной против нынешнего дохода. Но деньги здесь совершенная редкость».
Тогда же Дружинин пишет следующее относительно положения государственных крестьян в 1830-х годах: «Собирая государственные налоги и оброчные сборы, дворянская бюрократия и подчиненные ей органы крестьянского самоуправления старались не забывать и самих себя. По свидетельству современников, государственную деревню грабили все без исключения. На ней наживались и земские исправники, избиравшиеся дворянами из наихудших элементов дворянского сословия, и коронные чиновники, не исключая вице-губернаторов, которые руководили деятельностью казенных палат, и выборные крестьянские начальники… безграмотная деревенская масса, не умевшая разбираться в сложных финансовых подсчетах, платила вдвое – втрое больше положенного оклада… Особенно крупным источником для вымогательства являлась рекрутская повинность… Особую статью незаконных доходов составлял прием приезжающих чиновников, которых задаривали взятками и содержали на крестьянский счет» [2] Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева. Ч. 1. С. 104–105.
. Здесь речь идет о государственных крестьянах. Положение же крепостных было вне всяких сравнений. Посетивший в 1839 году Россию француз Де-Кюстин так описывает положение русских крепостных крестьян: «Мне рассказывали много интересных подробностей о так называемом крепостном праве русских крестьян. Мы можем лишь с трудом представить себе положение этого класса людей, лишенных всяких прав и вместе с тем представляющих собой нацию». Однако, несмотря на это, автор отдает должное моральной стойкости русского крестьянства: «Хотя русские законы отняли у них все, они все же не так низко пали в нравственном отношении, как в социальном» [3] Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. 1930. С. 74.
.
У автора этих строк не было никаких субъективных побуждений, он смотрел на Россию глазами постороннего наблюдателя: в его выводах нельзя поэтому искать исчерпывающей полноты и глубины, но можно рассчитывать на их беспристрастность.
Тяжелое положение крестьян усугублялось тем, что «первая половина 1830-х годов была отмечена продолжающимся затяжным сельскохозяйственным кризисом, который начался в 1820-х годах и повлек за собой повсеместное понижение цен на земледельческие продукты… с другой стороны, 1834 год был годом новой, восьмой ревизии… которая сопровождалась повышением податных окладов» [4] Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д Киселева. Ч. 1. С. 311–312.
.
Крестьяне повсеместно волновались, выходили из повиновения. Правительство прибегало к репрессиям.
«В начале 1835 года… начальникам 35 губерний было предоставлено право «в страх прочим неплательщикам» вводить в недоимочные селения… военные отряды…», «применить систему военной экзекуции…». «Эта мера была повторена сначала в 1836 году, а затем в 1837 году» [5] Там же. С. 305.
.
Но одних репрессивных мер было уже явно недостаточно. Поэтому правительство вынуждено было искать других, более гибких форм борьбы с надвигающейся революцией.
«Социально-политическая обстановка начала 1830-х годов, – пишет Н. Дружинин, – заставила правительство Николая I выйти из состояния длительных колебаний. Европейские революции 1830–1831 годов, повсеместные неурожаи, холерная эпидемия и крестьянские волнения, закончившиеся массовым возмущением в Приуралье, повелительно диктовали самые экстренные меры для смягчения и упорядочения крепостнических отношений. Секретный комитет 1835 года сыграл при этом крупную роль инициативного и направляющего центра» [6] Дружинин Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д Киселева. Ч. 1. С. 31.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу