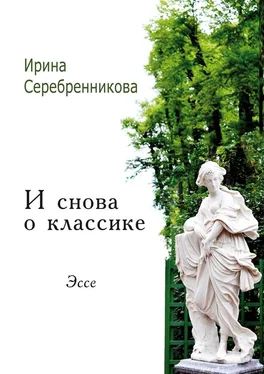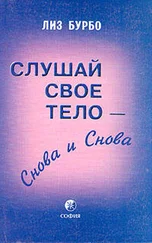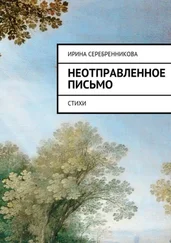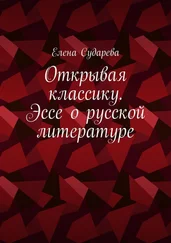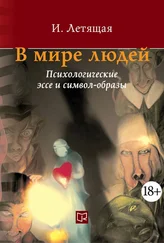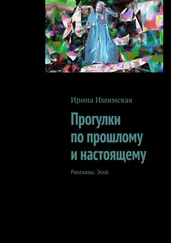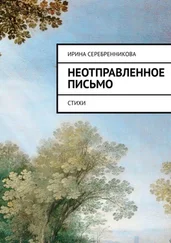Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?
Какой безысходностью, предчувствием беды веет от этой встречи! От блоковского «Двойника» короткая нить к «Черному человеку» С. А. Есенина.
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
Сентябрь, осыпающиеся листья, свист ветра над пустым полем и черный человек, являющийся поэту ночной порой. Непрошеный гость читает скандальную книгу жизни поэта. Мальчик из крестьянской семьи, «желтоволосый с голубыми глазами», превратился в прохвоста и забулдыгу. Изящный юноша, поэт, у которого было много прекраснейших мыслей и планов, теперь всего лишь
…жулик и вор,
Так бесстыдно и нагло
Обокравший кого-то.
Вся окружающая обстановка полна внутреннего драматизма: где-то плачет зловещая ночная птица, слышен деревянный стук копыт невидимых всадников, а рядом опять черный человек. Он нагоняет страх, он судит, он обличает. Судит тех, кто считает счастьем «ловкость ума и рук», обличает фальшь и лживость «изломанный жестов».
В стране «отвратительных громил и шарлатанов» высшее искусство – казаться простым и улыбчивым даже при самых тяжелых утратах. Черный человек старается быть объективным:
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.
Да, подлец не мог бы так безжалостно обнажить темные стороны своей жизни, стать для самого себя «черным человеком» и в ярости разбить зеркало, в котором отразился он сам.
«Черный человек» – трагическая исповедь С. А. Есенина незадолго до его гибели.
Герой стихотворения В. С. Высоцкого, не прибегая ни к каким иносказаниям, открыто заявляет о своих странных вкусах и запросах, о своем втором «я».
Во мне два «я» – два полюса планеты,
Два разных человека, два врага.
«Второе «Я»
Тот, кто «живет от первого лица», интеллигентен, мягок, без словаря читает Шиллера, даже в мыслях не позволяет себе лишнего.
Зато второе «я» имеет обличье грубого, злого, нетерпимого мерзавца. Измельчавший «демон» грызет стаканы, бьет витрины и лица прохожих, за что и получает положенный «срок».
Тот, кто «живет от первого лица» возмущенно и страстно отрекается от своего двойника:
Мне чуждо это «ё» моё второе!
Нет, это не моё второе «Я»
Загвоздка в том, что, пытаясь задавить в себе «мерзавца» наш герой не уверен, то ли второе «я» он давит, которое нужно; нет ли здесь ошибки?
В. С. Высоцкий точно рисует реалии нашей действительности, которые и по сей день своей несуразностью вызывают боль и обиду за нас самих.
В шутливом стихотворении О. В. Юркова проблема двойственности получила неожиданное освещение. Автор раздвоился.
В первый раз меня зарисовали…
…………………
Есть бумажный я, и я живой.
Превратился в двойняшку самого себя, нарисованного. Но живого человека отделяет от рисунка целая пропасть. С годами она становится все глубже, в ней исчезают труды, большие и малые дела – все то, что изменило и привнесло время.
Тот, бумажный, остался «тенью птицы». Автор надеется «преодолеть тягостный разрыв», даже изобретает способ, простой и действенный. Его можно найти в сборнике О. Юркова «Яровая борозда».
И последнее. Хватит ли у нас самих смелости заглянуть в собственную душу? Что из прожитого мы примем безоговорочно? От чего отречёмся?
День рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (15 октября) для меня такое же значимое событие, как 6 июня.
Поэтому я сразу обратила внимание на статью Дмитрия Шеварова «Осенние паруса», с помещенным в ней автопортретом поэта.
Дмитрий Геннадьевич Шеваров – журналист, публицист и прозаик, автор нескольких книг. В «Российской газете» он ведет рубрику «Календарь поэзии».
Статья, которая привлекла мое внимание, опубликована в номере 191 (неделя с 26 августа по 2 сентября 2010 г.) и открывается такой знакомой строкой «Белеет парус одинокий…».
Немного рановато? Но лермонтовский парус был написан именно 2 сентября 1832 года.
И тот одинокий парус, жестоко преследуемый бурями во мгле на жизненном море, вышел из-под пера Александра Сергеевича Пушкина тоже осенью 17 сентября 1827 года. 1 1 А. С. Пушкин. «Близ мест, где царствует Венеция златая…»
И парус Ивана Алексеевича Бунина «Высокий, белый и тугой» удаляется от берега на закате осеннего дня 14 сентября 1915 года.
Вот уж, поистине, «осенние паруса»!
И никак не лишний и, несомненно осенний парус, безрассудный и трагический, нашего современника Владимира Семеновича Высоцкого:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу