1 ...7 8 9 11 12 13 ...27 Десакрализованный киноглаз с его реальной пластикой человека и технического аппарата, чье присутствие обнаружено, показано в кадре, нередко отрефлексировано в экранном повествовании, не отменяет сакрального и невидимого киноглаза, который «видит и показывает» все происходящее. Два пластических кода существования киноглаза и, соответственно, экранной реальности могут объединяться в едином произведении, что мы классифицировали бы как гибридную (закрытую-открытую) экранную форму.
Особенно сильные эффекты возникают при объединении в кадре объектов повышенной пластической выразительности и образа разволшебствленного обнаруженного киноглаза, как то происходит в «Человеке из мрамора» (Czlowick z marmuru, 1976) Анжея Вайды. За сетчатой железной дверью лежит на полу запасника музея не слишком удачная скульптура, когда-то призванная увековечить трудовой подвиг рабочего Матеуша Биркута, позже выпавшего из обоймы официально пропагандируемых персон. Чтобы успеть быстро произвести нелегальную съемку, героиня садится верхом на скульптуру, отбирает у оператора тяжелую камеру и снимает, почти касаясь камерой лица изваяния. Фигура Биркута, запечатленного в каком-то неестественном, вымученном развороте, кажется вдвойне беспомощной. Горизонтальное положение и предельно фамильярный, если не сказать, фривольный, «телесный» контакт с Агнешкой создают мизансцену почти глумления.

Агнешка (Кристина Янда), «Человек из мрамора», 1976. Авторы: режиссер Анджей Вайда; сценарист Александр Сцибор-Рыльский; композитор Анджей Кожиньский
Пластика мизансцены конфликтует с подлинным смыслом происходящего – героиня идет напролом, чтобы выяснить и опубликовать подлинную историю человека, превращенного в эффективный для власти миф и преданного забвению тогда, когда он перестал быть удобен и полезен.
Поза Агнешки инспирирована целью быстрого запечатления запретного «человека из мрамора» ради развенчания советского мифа, создания киноправды. Героиня выполняет роль штатива для камеры, производя не надругательство над советской святыней, но разрушение инерционного пиетета к мифологизированному образу, как бы акцентируя в своей позе жажду прорваться к непарадной реальности. Лицо изваяния встречается с «лицом» киноглаза; в этой композиции проглядывает даже нечто геральдическое, что подчеркивает глобальный символизм ситуации. Камера и «человек из мрамора» смотрятся друг в друга как прошлое и настоящее, старый миф и новое орудие, способное служить любым целям. Лицом к лицу возможно и увидать, и запечатлеть, почти ощупать материю и форму советской мифологии.
В целом же героиня с камерой и советское изваяние, на котором она восседает, образуют своего рода скульптурную группу, в которой «человек из мрамора» становится опорой и платформой для человека с киноаппаратом. Возникает единый контур, единый объем скульптуры, живого человека и технического аппарата, словно выражая идею пластической триады, сращенности этих составляющих в новое тело, а точнее организм новой эпохи, которая основывается и опирается на изучение «тела истории».
Магическая фактура «цифры» и пластика компьютерной картинки
Итак, демонстративное постбожественное присутствие киноглаза становится одним из актуальных пластических и концептуальных решений. Но, как и все прочие решения, оно не универсально. Как часто бывает в истории культуры, на смену потребности акцентировать процессы десакрализации и разволшебствления приходит потребность в новых методах ресакрализации киноматерии.
На сей раз основным звеном новой сакрализации выступает фактура визуальной материи. Современность «отбита» от всего предшествующего периода технической экранной культуры посредством тотального распространения цифровых технологий.
Снятое на «цифре» кино обладает совершенно особой визуальной фактурой, которая воплощает единую духовно-медийную фактуру современного культурного пространства. Различные тела и среды, организмы и модели, динамические структуры и статичные композиции, события и лица связаны и повязаны этой фактурой.
Цифровое изображение являет собой новую стадию визуального иллюзионизма. Оно делает отображаемую реальность «вопиющей», особенно выразительной, визуально явственной. Цифровая реальность некоторым кажется более реальной, более непреложно существующей и очевидной в своей зримости, нежели обычный окружающий мир, не запечатлеваемый ни на какие носители. Цифровое изображение претендует на то, что оно более чем жизнеподобно, оно сверхжизнеподобно. И в этом его отклонение от жизнеподобия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
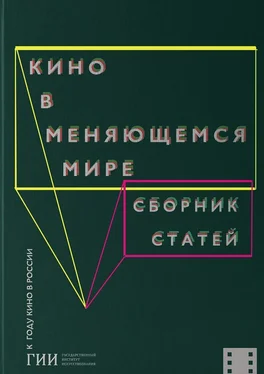




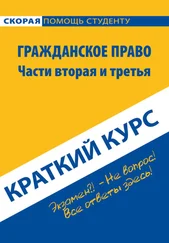
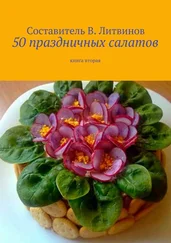

![Коллектив авторов - Гражданское право. Части вторая и третья. Краткий курс [litres]](/books/404815/kollektiv-avtorov-grazhdanskoe-pravo-chasti-vtoraya-thumb.webp)




