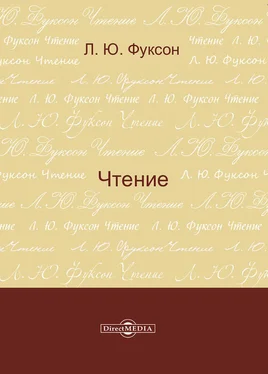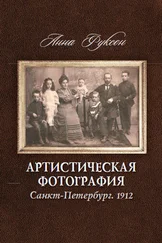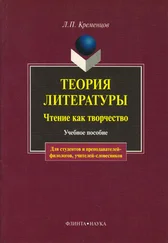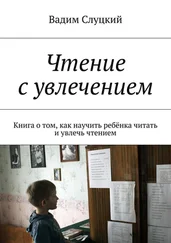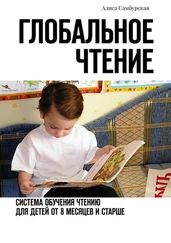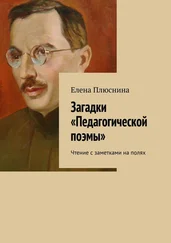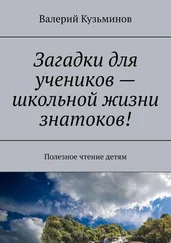Однако произведение означает и что-то само по себе . Загадка произведения ведёт не к чему-то вне его, а к нему самому. Поэтому произведение может рассматриваться и как феномен. При этом «выносятся за скобки» историко-литературный, общественно-политический и биографический контексты, а также творческая история текста без отрицания наличия и значимости всего этого. В этом мы полностью солидарны с К. Дальхаузом (см.: К. Дальхауз о ценностях и истории в исследованиях искусства // Вопросы философии. 1999. № 9. С. 131). Уместна здесь аналогия с тем, что А. Бергсон в самом начале своего «Введения в метафизику» пишет о двух способах познания вещи: «Первый способ предполагает, что вращаются вокруг вещи; второй – что в неё входят» (Бергсон А. Собр.соч. Т. 5. СПб., 1914. С. 3). Именно так – как неповторимый феномен – художественное произведение обращено к непрофессиональному читателю, а также – к толкователю. С фиксации странности начинает свою интерпретацию чеховского рассказа «Студент» В. В. Фёдоров: «Вера в то, что человеческую жизнь всегда направляли «правда и красота», рождается и укрепляется у Ивана Великопольского, героя рассказа, по мере того, как он рассказывает о самой, пожалуй, грустной вещи в мире – об отступничестве…» (Природа художественного целого и литературный процесс. Кемерово, 1980. С. 183). С. Г. Бочаров свои работы о Баратынском и Платонове тоже начинает с выделения странных особенностей поэтической манеры первого и поразительного языка второго (Бочаров С. Г. О художественных мирах. М., 1985. С. 69, 249). Это примеры особой установки по отношению к художественному тексту, в основе которой лежит удивление. Конечно, речь идёт здесь вовсе не о том, что отдельные тексты или отдельные авторы производят странное впечатление. Иногда странность вообще незаметна. Но это означает, что произведение ещё не стало с нами «откровенным» и мы видим в нём пока лишь нечто ожидаемое, обычное.
Каждое произведение требует особых усилий и в определённом смысле руководит ими. Ницше писал: «Бросающиеся на Гомера филологи думают, что можно взять силою. Древность говорит с нами, когда ей это угодно, а не тогда, когда это нам угодно» (Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 297). Так, по-видимому, можно сказать о любом художественном произведении. Понимание – это не столько умение что-то формулировать, сколько умение слушать само произведение, слушать и не перебивать. Ведь только так и можно что-то услышать. Как справедливо утверждает Г. Зедльмайр, «не приватное мнение о произведении должно получить слово, но само произведение должно заговорить» (Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб., 2000. С. 176).
Приведём загадочные заключительные слова рассказа Борхеса «Конец»: «Завершив своё праведное дело, он снова стал никем. Точнее, незнакомцем, которому уже нечего делать на земле, ибо он убил человека» (пер. Ю. Стефанова). Это, по-видимому, надо понимать так, что завершение дела жизни завершает саму жизнь как нечто уже потерявшее смысл. Таким «праведным делом» в рассказе оказывается месть за убитого брата.
Схватка негра и Мартина Фьерро увидена глазами владельца лавки и дана как событие на фоне абсолютно бессобытийной повседневности жизни разбитого параличом Рекабаррена, который является не просто наблюдателем, а обречённым на лишь-наблюдение, не способным ни на что другое. Характерна, с этой точки зрения, разница между пончо на скачущем навстречу своей гибели всаднике и пончо, обёрнутым «вокруг ног» неподвижного паралитика. Причём это не только противопоставление, но и сопоставление.
Трое персонажей – убийца, убитый и наблюдатель – похожи тем, что все они, хоть и по-разному, выключаются из жизни. Похожесть Мартина Фьерро и негра подчёркивается тем, что сначала один называется незнакомцем, затем – второй. Мартин Фьерро уже до схватки такой, каким становится к концу его противник: он уже не видит смысла жизни в убийстве, говоря своим детям о том, что «человек не должен проливать кровь человека». Неслучайна его «странная усталость». Мартину Фьерро «уже нечего делать на земле»: ведь он уже убил человека (брата негра). Поэтому он, как и негр после схватки, похож на Рекабаррена, которому уже тоже «нечего делать на земле».
Процитированный фрагмент можно понять и по-другому, если сделать акцент не на исполнении предназначения, а на убийстве: после убийства человека уже невозможно жить. «Праведное дело» (месть) оказывается неправедным (убийством), но уже с какой-то иной точки зрения, внешней по отношению к схватке. На первой находится негр до убийства. Пролитие крови оказывается границей, разделяющей эти точки зрения: негр говорит о детях, выслушавших отцовские слова о недопустимости кровопролития: «Значит, они не будут похожи на нас». Отсюда ещё один смысл названия: уходит эпоха, когда пролитая в честном поединке кровь могла считаться «праведным делом».
Читать дальше