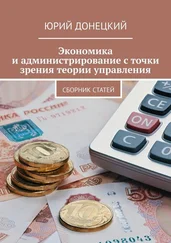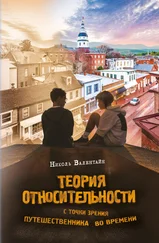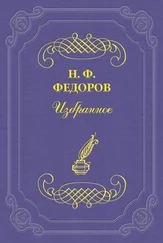0.1.2.1.1 R. Poggioli
Первая «Теория авангарда» вышла в 1960-е годы – это книга Ренато Поджоли «The Theory of the Avant-Garde» (Poggioli 1968). В ней авангардизм рассматривается «не столько как эстетический, сколько как идеологический факт» (с. 3). Значительное место в этом исследовании занимает психологическое объяснение основных категорий авангардистского искусства. Эти категории – «активизм», «нигилизм», «футуризм» (устремлённость в будущее), «агонизм» (патетичность). Р. Поджоли рассматривает искусство авангардистов в широком культурном контексте: в книге исследуются параллели между авангардом и романтизмом и ставятся, например, такие вопросы, как «авангард и мода», «авангард и политика». Материалом для теоретических обобщений Р. Поджоли служат не только традиционно рассматриваемые в качестве авангардистских 3 3 Следует, впрочем, отметить, что в 60-е годы терминология была иной, чем теперь.
течений итальянский и российский футуризм, экспрессионизм, дадаизм и сюрреализм, но также, например, и символизм – и в результате понятие «авангард» теряет чёткие очертания. В книге описан «дух авангарда»: авангард – прежде всего особое психологическое состояние (или, точнее, психологическая ориентированность художника) и порождаемые этим состоянием эстетические практики.
0.1.2.1.2 P. Bürger
Более глубокий анализ авангардизма проводится в книге немецкого литературоведа Петера Бюргера «Theorie der Avantgarde» (Bürger 1974). Эта книга стала знаменитой, была переведена на многие языки и вызвала оживлённую полемику; вышел даже отдельный том «ответов Петеру Бюргеру» – сборник статей «Theorie…» (1976). Используемое в этой монографии понятие «исторический авангард» отсылает «прежде всего к дадаизму и раннему сюрреализму, но в равной степени и к российскому авангарду после Октябрьской революции»; по мнению П. Бюргера, в этот ряд возможно включить – «с некоторыми ограничениями» – также итальянский футуризм и немецкий экспрессионизм (с. 44).
Монография П. Бюргера начинается с «Размышлений о критическом литературоведении». Задача «критической науки», по П. Бюргеру, – выяснить, «какие вопросы могут быть поставлены в категориях традиционной науки и какие вопросы в ней исключены уже на уровне теории» (с. 9).
В ходе чтения книги Бюргера возникает впечатление, что не только метод, при помощи которого в ней исследуется авангардизм, является «критическим методом», но и сам объект исследования обладает теми же свойствами. Благодаря тому, что авангард «возвёл в принцип творчества свободный выбор художественных приёмов разных эпох», художественные приёмы из характерного признака конкретной художественной эпохи, конкретного стиля превратились в «средство» искусства (родилась категория «художественный приём»), к которому художник может обращаться по своей воле, выбирая один приём (или несколько) из ряда возможных (с. 23). Доведя до крайней степени развития различные эстетические категории (такие, как «органичность», «подчинение частей целому»), авангард способствовал осознанию их относительного, исторически обусловленного характера. Наконец, став логическим завершением тенденции к автономности искусства в буржуазном обществе, авангард являет собой критику «социальной подсистемы „искусство“» средствами самого искусства (с. 34).
Таким образом, авангардизм, по П. Бюргеру, – это критическое осмысление искусства в рамках самого искусства. Но это значит, что авангардизм выполняет то требование, которое Бюргер ставит перед «критическим исследованием». Механизм исследования соответствует механизму, управляющему объектом; метод порождается объектом (или извлекается из него).
Эта методологическая установка представляется чрезвычайно привлекательной. Речь идёт об аутентичности нашего видения объекта: если мы смотрим на объект извне, мы относим к характеристикам объекта характеристики нашего взгляда (который всегда сохраняет историческую (в широком смысле) обусловленность) 4 4 Ср.: «Не только то, ка́к, но и то, что́ мы видим, определяется потребностями и привычками. Они отбирают, игнорируют, организуют, различают, связывают, классифицируют, анализируют, конструируют. […] восприятие и интерпретация не являются различными операциями, они полностью зависят друг от друга» (Goodman 1969: 8).
. Пытаясь увидеть объект так, как он сам воспринимает внешний мир (и самого себя), мы приближаемся к (возможно, недостижимому) идеалу адекватного ви́дения 5 5 Этот идеал соответствует введённому Ч. С. Пирсом понятию – или идеалу – «финальной интерпретанты» знака. См. ниже, 0.3.2.2.5. Ср. K. Oehler (2000: 17).
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
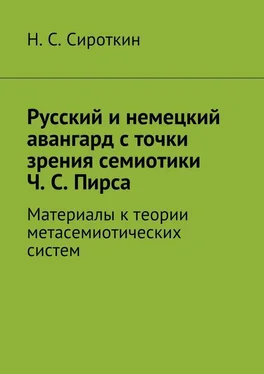
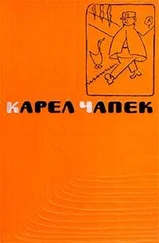
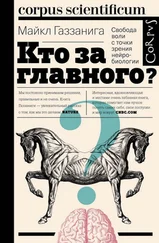
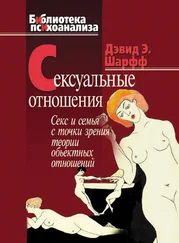
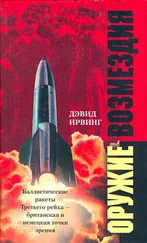
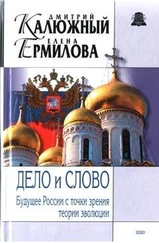
![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/385217/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr-thumb.webp)