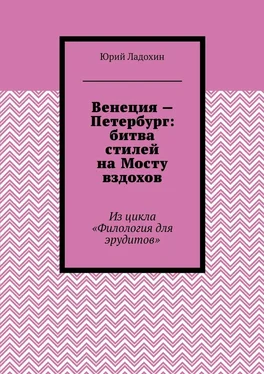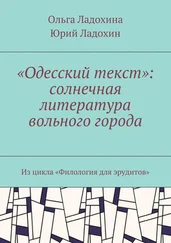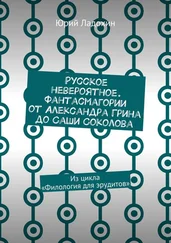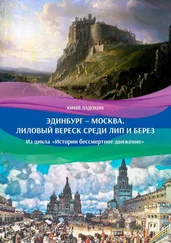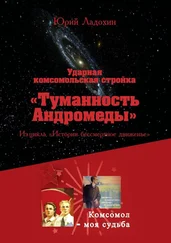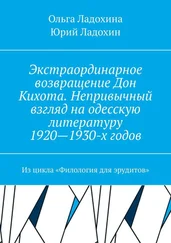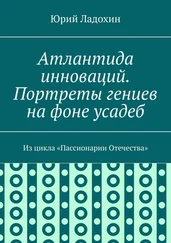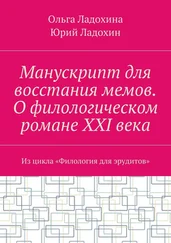Постранствовав по свету и увидев чудеса из чудес, поэт Серебряного века Николай Агнивцев готов, тем не менее, на диске земного светила разместить название только одного, любимого города:
«В моем изгнаньи бесконечном
Я видел все, чем мир дивит:
От башни Эйфеля до вечных
Легендо-звонных пирамид!..
И вот «на ты» я с целым миром!
И, оглядевши все вокруг,
Пишу расплавленным ампиром
На диске солнца: «Петербург»
(из стихотворения «Блистательный Санкт-Петербург», 1923 г.).
1.2. «Время выходит из волн, меняя // стрелку на башне – ее одну…»
Итак, что это такое – город на воде? Стихотворный дивертисмент попробуем сменить на прозу, правда, написанную поэтом.
Проведя в Венеции семнадцать рождественских каникул, Иосиф Бродский сформировал свое, особое отношение к здешней воде. Откроем эссе «Набережная Неисцелимых», в котором поэт выразил свое восхищение перед этим местом на земле, где обитает, как он писал, «мой вариант рая». В первом случае его поразила особая чуткость, которую приобретает рассудок во время передвижения по каналам: «В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено, тебе сообщают не только твои глаза, уши, нос, нёбо, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда ее поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней – палуба – у тебя под ногами, на воде ты бдительней, чем на берегу, чувства в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыться, как бывает на улице: ноги все время держат тебя и твой рассудок начеку, в равновесии, точно ты род компаса. Возможна, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, – это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых» [Бродский 2004, с. 76].
Впрочем, думается, повышенная чувствительность поэта во время этого передвижения по Гранд-каналу объясняется нарастающим предчувствием разлуки с сопровождающей его спутницей. Но рассказчик мужественно пытается не сбиться с галса, защищаясь присущей ему иронией: «Во всякой случае, на воде твое восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей – и взаимной – опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньше, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя разошлись самое меньшее на сорок пять градусов. Вероятнее всего, потому, что эта часть Canal Grande лучше освещена» [Там же, с. 76].
Во втором фрагменте Бродский формулирует еще более непривычную гипотезу в поиске родственных связей венецианской воды. В дни зимних наступлений на город «большой воды» единокровник (тут, видимо, вернее сказать – единокровница) воды нашелся среди одной из муз, покровительство над которой издавна было закреплено за Эвтерпой, не расстающейся со сладкозвучной флейтой: «„Acqua alta“, – говорит голос по радио, и уличная толчея спадает. Улицы пустеют, магазины, бары, рестораны и траттории закрываются. Горят только их вывески, наконец-то присоединившись к нарциссистским играм, пока мостовая ненадолго, поверхностно сравняется с каналами в зеркальности. Правда, церкви по-прежнему открыты, но ведь ни клиру, ни прихожанам хождение по водам не в новинку. Ни музыке, близнецу воды» [Там же, с. 117].
Выпирающая из текста странность пары «музыка – вода» поначалу удивляет. Но дальнейшие пояснения повествователя как-то примиряют с мастерски обыгранным допущением: «Семнадцать лет назад, переходя вброд одно campo за другим, пара зеленых резиновых сапог принесла меня к порогу розового зданьица. На стене я увидел доску, гласящую, что в этой церкви крещен родившийся раньше срока Антонио Вивальди. В те дни я еще был рыжий; я растрогался, попав на место крещения того самого „рыжего клирика“, который так часто и так сильно радовал меня во множестве Богом забытых мест» [Там же, с.117].
Парадоксальность соображений автора «Набережной Неисцелимых» о многогранном естестве венецианской воды в конце концов логично приводит поэта к философской новации, вполне, думается, соответствующей уровню суждений Платона в диалоге «Тимей» о Вечности и Времени: «Я всегда придерживался той идеи, что Бог или, по крайней мере, его дух есть время. Возможно, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что, раз Дух божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и – поскольку я северянин – к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, новой пригоршни времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь» [Там же, с. 90].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу