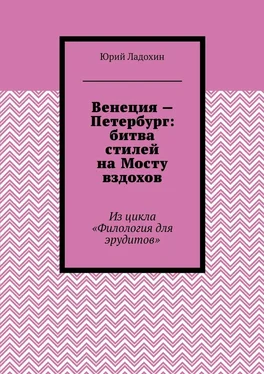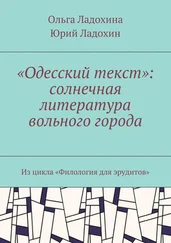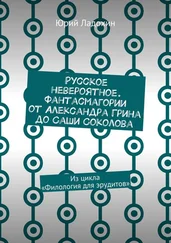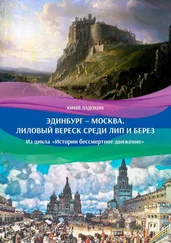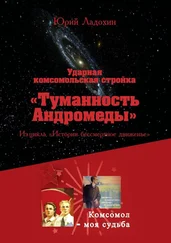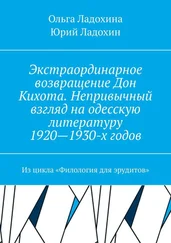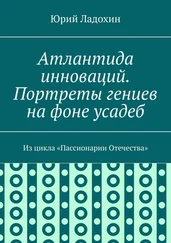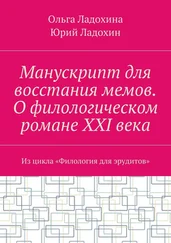Несколько сомнительные эксперименты властителей Венеции со Временем на этом не закончились: «Официальный отсчет времени здесь также отличается от общепринятого. Началом следующего дня считается час, когда пробьет вечерний Ангелюс, колокол, призывающий к молитве „Ангел Господень“, то есть шесть часов вечера. Таким образом, половина седьмого вечера в Сочельник, с точки зрения венецианцев, – уже Рождество. Эта система действовала вплоть до наполеоновского завоевания» [Там же, с. 244].
П. Акройд замечает и некоторые необратимые последствия столь смелых опытов с «объективной формой существования движущейся материи». Время здесь непостижимым образом превращается в явление, имеющее все признаки (вы будете ошеломлены!) звукового эха: «Венеция измеряла себя историческим, а не хронологическим временем. Столетия заперты на острове, как и раньше; они заточены в лабиринте улочек. На материке у времени достаточно пространства, чтобы распространяться, уплощаясь и утончаясь. В Венеции оно отражается и повторяется. Шон О’Фаолейн описывает его как „проекцию шопенгауэровской воли, вневременную сущность“» [Там же, с. 244 – 245].
В приведенном фрагменте британский писатель, конечно, не случайно упомянул «лабиринт улочек». Первым в истории о сооружении, состоящем из запутанных путей к выходу, сообщил Геродот, описывая египетский лабиринт возле города Крокодилополя, вмещающий около трех тысяч помещений. Но древнегреческий историк рассказал о колоссальном гранитном здании с запутанной схемой расположения комнат. Венеция же как город всей совокупностью тесно упакованных архитектурных сооружений могла бы, наверно, претендовать на звание самого гигантского лабиринта в мире.
У И. Бродского две основные ассоциации с лабиринтом венецианских улиц. Первая, что вполне предсказуемо, связана с известнейшим мифом древней критской цивилизации: «Продвигаясь по этим лабиринтам, никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя, охотник ты или дичь. Точно, не святой, но пока что, возможно, и не полноценный дракон; вряд ли Тесей, но и не изголодавшийся по девушкам Минотавр. Впрочем, греческая версия звучит привычней, поскольку победитель не получает ничего…» [Бродский 2004, с. 113]. Вторая у поэта сопрягается с учреждением, впервые появившимся на земле древнего Востока, в ливанском городе Библ: «Остается читать и уныло разгуливать. Что почти одно и то же, поскольку вечером эти каменные узкие улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеки, и с той же тишиной. Все „книги“ захлопнуты наглухо, и о чем они, догадываешься по имени на корешке под дверным звонком» [Там же, с. 122].
Венецианские лабиринты не пугают опытного покорителя городов П. Вайля. Для растерявшегося пилигрима он придумал противоядие (не нить Ариадны, конечно, но хотя бы такое): «Во всяком другом городе турист бесстрашно садится в такси, добираясь до любых углов. Здесь он жмется к Сан-Марко, боясь – не без оснований – запутаться в лабиринтах улочек, меняющих на каждом перекрестке названия, утыкающихся без ограждения в каналы, с домами замысловатой нумерации: 2430, а рядом – 690. Оттого Венеция не устает раскрываться тому, кто ей верен, и особенно тогда, когда овладеваешь техникой ходьбы по кальи – то, что венецианцы называют „ходить по подкладке“: ныряя в арки, срезая углы, сопрягая вапоретто с трагетто – переправой в общественной гондоле» [Вайль 1999, с. 93].
У писателя Дмитрия Бавильского тоже есть свой ключик к запутанной схеме изогнутых улочек города. Решение этой нелегкой задачи для автора «Венецианского дневника эпохи твиттера» лежит в несколько метафизической плоскости – это вера в живое взаимодействие с самим городом. Рассмотрим поподробнее: «Город раскрывается, подобно лабиринту, когда у тебя в руках – путеводная нить. Даже если ты здесь в первый раз и лишь полчаса назад сошел с корабля на сушу, город успевает обступить своей доступностью, подхватывая воздуховодом, едва ли не за руку ведет в закрома. Никогда, кажется, интуиция не работала у меня с такой полнотой, заранее зная, что ждет за тем или иным поворотом» [Бавильский 2016, с. 24].
Правда, через некоторое время романтические ожидания создателя травелога корректируются трезвым анализом наблюдательного писателя: «Впрочем, легкость „покорения“ (продвижения) вглубь обманчива. Открытость Венеции обманчива вдвойне: ведь эти же самые столетия туризма помогли ей эволюционировать в стену тотального отчуждения и полнейшей отгороженности аборигенов от всего, что вокруг» [Там же, с. 25].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу