R. Barthes, CameraLucida: Reflections on Photography (London: Vintage, 2000), pp. 31–32.
В ином контексте и не предлагая своих интерпретаций теорий Барта, об архетипических метафорах, лежащих в основе стадиально генетических подходов к изображению, слову, жесту, статике и динамике движения пишет Юрий Цивьян в работе На подступах к карпалистике: Движение и жест в литературе, искусстве и кино (М., НЛО, 2010), стр. 37–38,40,45, 54.
Биографы и коллеги, после смерти Барта посвятившие его памяти сборник статей Размышления об "Освещенной камере" Барта, подчеркивают, что внутренним побуждением для написания этого трактата послужили скорбные переживания, связанные со смертью матери, горячо им любимой. Таким образом, в основе трактата лежит активная способность памяти живущего воскрешать былое и переносить его в свое настоящее. См. Jay Prosser, "What Barthes Saw in Photography (That He didn't in Literature)", Photography Degree Zero: Rfelections on Roland Barthes's «Camera Lueida», ed. Geoffrey Batchen (Cambridge MASS, London: The MIT Press, 2009), pp. 91–96.
В обоих случаях (Мышкин и Рогожин перед поразившим их лицом) законы архаичного метафорического вид́ения мира согласуются с семиологическими теориями Барта о магии фотокамеры
Если бы Барт обратился к литературным текстам и к роману Идиот в частности, описания магического прокола и превращения живого в неживое (momentum mori, punctum temporis, stilled life) показали бы, что и встреча Рогожина с Настасьей Филипповной, и сцена рассматривания ее фотографии Мышкиным, и рассказ, воспроизводящий воспоминания молодого человека, приговоренного к смертной казни, как особые виды рефлексивных субъектно – объектных повествований изоморфны главным смыслосодержательным моментам рецепции фотографий, которые составляют содержание его книги. См. фотопортрет Луиса Пэйна, в 1865 г. приговоренного к смертной казни за попытку покушения на жизнь государственного секретаря США Виллиама Стюарда, выполненный в тюремной камере: молодой человек с руками, забранными в наручники, неподвижно стоит у каменной стены и смотрит прямо перед собой. Надпись под фотографией: «Он умер и он будет убит» (фотограф Александр Гарднер, стр. 95). См. также рецепцию фотографии группы москвичей, расходящихся с первомайской демонстрации (работа Виллиама Клейна, 1959 г.): «Фотография показывает мне, как одеваются русские. Я замечаю большую кепку одного молодого человека, галстук другого парня, шерстяной платок на голове старухи…» (стр. 290). Ср. с описанием портрета старика – Рогожина в кабинете сына у Достоевского.
Об этом же см. Гомбрих, «Искусство и иллюзия», E.H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation (Princeton NJ: Princeton UP, 1972), стр. 10–12, 29–30. По Гомбриху, определенная культура восприятия фотографий дает представление о таких свойствах и качествах изображаемого лица, которые не могут быть воспроизведены средствами живописи. Специфический эффект восполнения реальности, называемый Гомбрихом «иллюзией», обогащает фотографию как произведение искусства дополнительным информационно – эстетическим смысловым содержанием.
Ср. сцепу у входных дверей квартиры Иволгиных: «Князь снял запор, отворил дверь и – отступил в изумлении, весь даже вздрогнул: пред ним стояла Настасья Филипповна. Он тотчас узнал ее по портрету. Глаза ее сверкнули взрывом досады, когда она его увидела; она быстро прошла в прихожую, столкнув его с дороги плечом..:» (86). Авторским комментарием подчеркнуты характерные признаки экфразиса: рама, отделяющая созерцателя от созерцаемого субъекта, дистанция, которую быстро преодолевает Н.Ф., с толкнув князя и войдя в прихожую, портрет как средство мгновенной и правильной идентификации личности. Авторский комментарий, преодолевая границы рамы, приближает лицо к портрету, и этим объясняется эффект мгновенного узнавания – «он тотчас узнал ее».
Ощущение опасности, грозящей Н.Ф., возрастает у князя, когда он замечает, как воспринял Ганя его замечание о Рогожине. Картина представлена с позиции Мышкина, переводящего взгляд с портрета на Ганино лицо; объяснения, почему Ганя так реагировал на его слова, не дано: «Только что выговорил это князь, Ганя вдруг так вздрогнул, что князь чуть не вскрикнул. – "Что с вами?" – проговорил он, хватая его за руку» (32). Мысль о том, что и Гане, в минуты ненависти к невесте, приходила в голову подобная идея, найдет потом подтверждение в ее словах: «… а то бы зарезал», а предупредительный жест князя (схватил Ганю за руку) повторится в сцене скандала в доме Иволгиных.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
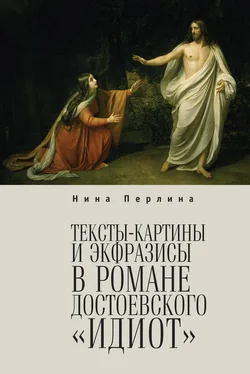
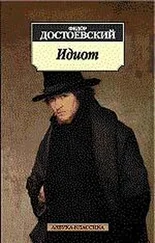

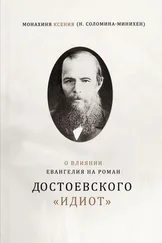

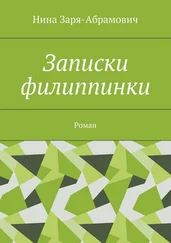
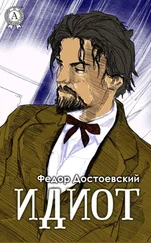
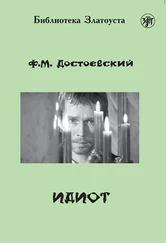
![Федор Достоевский - Идиот [litres]](/books/429285/fedor-dostoevskij-idiot-litres-thumb.webp)

