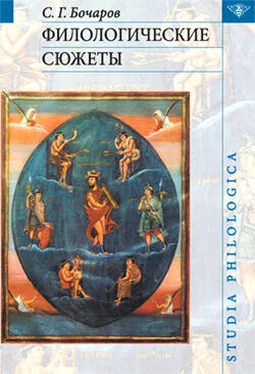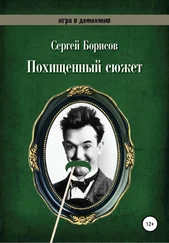Об объективности и «протеизме» Пушкина писали множество раз, начиная с Киреевского и Гнедича; позже, в 40–е годы уже, об объективности Пушкина особенно ясно сказал Гоголь: «Все наши русские поэты: Державин, Жуковский, Батюшков удержали свою личность. У одного Пушкина её нет. Что схватишь из его сочинений о нём самом? Поди, улови его характер, как человека! Наместо его предстанет тот же чудный образ, на всё откликающийся и одному себе только не находящий отклика». Для Гоголя объективность Пушкина – уникальная, идеальное поэтическое сознание: «Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше.». [39]
Как заметно расходятся эти характеристики с оценками близких друзей—литераторов в 20–е годы, в ходе возникновения «Онегина», по прочтении той или иной главы! Катенин и Вяземский, мы помним, замечали прежде всего самого Пушкина, «его характер, как человека», его разговор и весёлость. Они были близко и к Пушкину самому, и к его на глазах возникающему «созданию»: они ещё не имели целого и видели отдельные стихи или, самое большее, главы. Гоголь судит о Пушкине в целом с большой дистанции и временной и личной, ибо и личное его отношение совершенно другое, нет для него эмпирического житейского Пушкина, а есть «русской человек в его развитии» и есть «сам поэт».
Так роман в стихах по—разному воспринимается «слишком близко» и «на расстоянии», подобно тому как смотрится живописное полотно. Необходима дистанция, чтобы мазки превратились в формы, и необходима дистанция (чувство дистанции, которая есть объективно в романе, распределяет его отношения в плане), чтобы в полном объёме раскрылся основной в композиции всеобъемлющий образ я, который ступенями переходит от приятеля или частного Пушкина к сознанию автора, ставшему объективным миром романа, равному целой жизни. Этими переходами нам представлено удивительное явление – объективность поэтического сознания, его особая человеческая природа: ибо оно громадно перерастает и превосходит отдельное я поэта.
Поэтому в «Онегине» – разные измерения я. То и дело является частное я, единица большого мира: В сем омуте, где с вами я / Купаюсь, милые друзья!; Иль просто будет добрый малый, / Как вы да я, как целый свет? Своего рода масштабом может служить фигура в нескольких строфах первой главы – мы уже говорили о ней. Сам Александр Сергеич Пушкин / C мосьё Онегиным стоит. Здесь образ я наиболее воплощён, вошёл в сюжет Онегина действующим лицом, из голоса обратился в тело. Здесь я вполне в той же самой действительности и в одном размере с героем романа; но этот я, наиболее воплощённый, наиболее отчуждён, ограничен, связан, условен, фиктивен. Он только озлоблен и всеми чертами Онегину равен; их разность начисто в строфах о «дружбе» забыта. Он даже «меньше» чуть—чуть своего приятеля, смотрит несколько, как ученик, снизу вверх: Сперва Онегина язык / Меня смущал; но я привык… Этим я—персонажем, словно масштабом, можно измерить соотношения планов в композиции романа в стихах. Сам Александр Сергеич Пушкин в широких границах я всего более далёк от настоящего Пушкина. [40]Вот почему нам кажется лишь относительно верным следующее замечание Г. Гуковского: «автор в „Евгении Онегине“ – не демиург мира, а лишь наблюдатель и комментатор событий, стоящий рядом с героями и не поглощающий их. Он равен им в качестве такого же объективного лица.». [41]Но это лишь малое я, и видеть в качестве «образа автора» только его – значит рассматривать слишком близко «живопись» пушкинского романа.
Пушкин наполнил роман в стихах отражениями своей биографии; но он в то же время советовал не жалеть о потере записок Байрона (в письме Вяземскому): «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением». В знаменитых стихах он показал поэта как житейское существо:
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Л. Гинзбург замечает об этом стихотворении, что, напечатанное в «Московском Вестнике», журнале русских шеллингианцев—романтиков, оно расходилось принципиально с их образом поэта, их представлением о тождестве жизни поэта с его поэзией и непричастности бытовой эмпирической жизни. «В своем „Поэте“ Пушкин, напротив того, изобразил человека двойного бы—тия.». [42]
Замечу кстати: все поэты – / Любви мечтательной друзья, – автор в «Онегине» рассказывает о своей поэтической эволюции. Он был прежде таким поэтом, как «все поэты», и сейчас вступил в другую эпоху. Бывало, милые предметы снились ему, их после Муза оживила: Так я, беспечен, воспевал / И деву гор, мой идеал, / И пленниц берегов Салгира. Опыты жизни (любовь) и поэзия слиты и представляют нечто тождественное: воспеваются под девой гор свои сугубо личные впечатления, переодетые и непосредственно возведённые в идеал воспоминания о милых предметах. Таковы все поэты: это в романе героев Ленский.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу