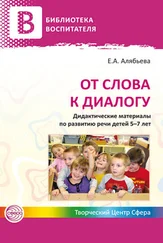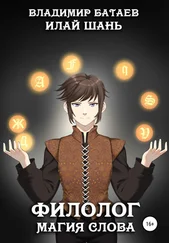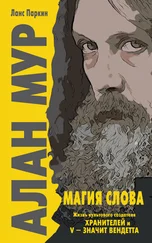— У меня есть старый товарищ и коллега, который работал и, по-моему, до сих пор работает представителем ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке. И в ходе своего пребывания в Соединенных Штатах он был вынужден несколько видоизменить свою фамилию — Шитов: в американских медиа он фигурирует как Sitov. Понятно, по каким причинам: shit off, shit трактуются однозначно. Но интересно отметить следующее. Могу приоткрыть завесу тайны. Я наблюдал некую — в статистическом даже плане — разбивку критики и комплиментов в адрес синхронных переводчиков.
— По каким поводам?
— По каким их хвалят и ругают. Никогда не звучит следующая оценка: «Вы очень хорошо и правильно переводили». Чаще говорят: «Какой у вас приятный голос», «Как вас приятно слушать», «Как вы хорошо подаете информацию» . А критика такого рода: «Переводчик мычит или бубнит, у него неприятная интонация, монотонный голос». То есть, все эти оценки связаны не с содержанием, а с формой. Поэтому, обучая синхронных переводчиков, я подчеркиваю важность владения родным языком. Если ты глубоко в теме, знаешь терминологию, сохраняешь всю информацию при переводе, но при этом коряво выражаешься по-русски — твой перевод никто не оценит. А то, что форма подачи информации была неправильной, неприятной — это заметят все.
— Почему ты стал именно синхронным переводчиком, а не, скажем, письменным?
— Есть люди, которые склонны к офисной работе с 9 до 6, их устраивает стабильность, предсказуемость. Это не вопрос, хорошо или плохо, — это вопрос темперамента. А есть люди, которые привыкли трудиться аккордно: навалиться, сделать проект — и потом расслабиться. В обществе, в экономике нужны и те, и другие. Наверное, синхронный перевод — аналог второго, аккордного варианта. Ты готовишься, собираешься с силами, качаешься интеллектуально, знакомишься с информацией, входя в новую тему, о которой ещё вчера ничего не знал, овладеваешь базовыми понятиями, словарем, терминологией — и входишь в совершенно стрессовое состояние синхронного перевода, которое, говорят, сопоставимо с состоянием космонавта. Проходишь через него — и, получив удовлетворение, отдыхаешь.
— Тебе приходилось переводить с языка на язык, ни один из которых не является русским?
— Бывают такие пары: с английского на испанский или с итальянского на английский.
— И тебе приходится работать без партнера?
— Найти его не всегда легко.
— Как же ты выкручиваешься?
— Расскажу конкретную ситуацию. В начале 2000-х приезжает в Москву президент Итальянской республики Карло Адзелио Чампи. Встречается с правительством. Там всё нормально — итальяно-русский перевод. Вдруг срочно возникает потребность в англо-итальянском переводе, поскольку ему предстоит встреча с дипломатическим корпусом, аккредитованном в Москве, а он по-английски не говорит. И переводчика соответствующего у него нет. В итальянском посольстве открывают базу данных, а там первым номером — ваш покорный слуга. Естественно, зовут. И я с президентом перед послами час работаю без напарника.
— С какой физической нагрузкой это можно сравнить?
— С нагрузкой автогонщика: очень высокая скорость, очень резкие повороты, очень быстрая реакция. Бывают мероприятия, где говорят на нескольких языках, и моё знание их нередко выручало. Например, идет конференция в Москве, выходит представитель Франции и начинает говорить по-французски. Это не запланировано, к этому никто не готовился. А он имеет право: французский — мировой язык. Тут же вспоминают, что я его знаю, и меня за холку из курилки — в кабину синхрониста. Или — приезжает принц датский, муж датской королевы, но сам он французский граф, и родной его язык — соответственно. И заявляет: с английским у меня проблем нет, но если будут интервью или официальные выступления — я из принципа буду говорить только по-французски. Потому что я француз!
— Не припомню ни одного литературного или кинематографического произведения о синхронных переводчиках, за исключением «The Interpreter» с Николь Кидман в главной роли.
— Я не знаю о таком произведении. Но в исторических хрониках есть разбросанные, как крупицы, ситуации, связанные с переводчиками. Я с детства помню одну историю из «Повести временных лет». Когда печенеги осадили Киев, припасы оказались на исходе, киевлянам приходилось туго, и надо было кого-то послать за подмогой. Но как послать, когда город обложен? «И въстужиша людье в городъ и ркоша: «Не ли кого, иже бы на ону страну моглъ доити и речи имъ: аще не приступите утро подъ городъ, предатися имамъ печенегом?» И рече одинъ отрокъ: «Азъ могу преити». Горожани же, ради бывше, ркоша отроку: «Аще можеши, како ити — иди». Онъ же изыде изъ града съ уздою и хожаше сквозъ печенегы, глаголя: «Не виде ли коня никтоже?» Бе бо умея печенежскы, и нь мняхуть из своихъ. И яко приближися к реце, свергъ порты съ себе, сунуся въ Днепръ, и побреде. И видевше, печенези устремишася на нь, стреляюще его, и не могоша ему ничтоже створити». («И стали тужить люди в городе и сказали: «Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и сказать им: если не подступите утром к городу, — сдадимся печенегам». И сказал один отрок: «Я смогу пройти». Горожане же обрадовались и сказали отроку: «Если знаешь, как пройти, — иди». Он же вышел из города, держа уздечку, и прошел через стоянку печенегов, спрашивая их: «Не видел ли кто-нибудь коня?» Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего. И когда приблизился он к реке, то, скинув с себя одежду, бросился в Днепр и поплыл. Увидев это, печенеги кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему ничего сделать»).
Читать дальше



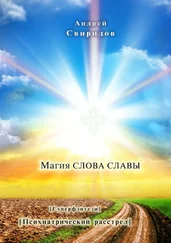
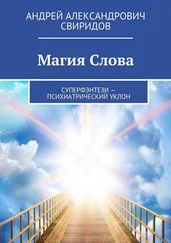
![Ланс Паркин - Алан Мур. Магия слова [litres]](/books/408846/lans-parkin-alan-mur-magiya-slova-litres-thumb.webp)