Древние люди очень здраво относились к слову. Они считали само собой разумеющимся, что слово — это потенциальное дело. В их представлениях слову придавалась магическая сила. А. А. Потебня писал об этом:
«Слово есть дело… Поэтому мужскую песню прилично петь только мужчине, веснянку — только девушке, свадебную — только на свадьбе, заплачку — только на похоронах; знающий заговор соглашается сообщить его лишь посвященному, не для профанации, а для серьезного употребления» [94].
О значении слова для древних людей академик Федор Иванович Буслаев говорит:
«Если же во всех более или менее важных отправлениях своей духовной и даже физической жизни человек видел таинственное проявление кроющейся в нем какой-то неведомой, сверхъестественной силы, то, конечно, слово, как самое высшее, вполне человеческое и по преимуществу разумное явление его природы было для него всего обаятельнее и священнее. Оно не только питало в нем все заветные родственные симпатии к старине и преданию, к роду и племени, но и возбуждало благоговейный ужас и религиозный трепет»; «Эта цельность духовной жизни, отразившаяся в слове, всего нагляднее определяется и объясняется самим языком; потому что в нем одними и теми же словами выражаются понятия: говорить и думать, говорить и делать; делать, петь и чародействовать; говорить и судить, рядить; говорить и петь; говорить и заклинать; спорить, драться и клясться; говорить, петь, чародействовать и лечить; говорить, видеть и знать…
Наши предки чувствовали в слове „гадать“ соединение двух понятий: мыслить и говорить… „гадание — съкровенъ глаголъ“, то есть сокровенное слово, не только мысль вообще, но и таинственное изречение, а также ворожба, потому что гадать значит ворожить, а вместе и изрекать непонятные слова — загадывать» [95].
Поэтически романтизируя научную проблему, известный деятель русского символизма Вяч. Иванов писал:
«Символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение, им одним открытое, в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределами общедоступного опыта».
По представлениям Иванова, древние «жрецы и волхвы» «знали другие имена богов и демонов, людей и вещей, чем те, какими называл их народ, и в знании истинных имен полагали основу своей власти над природой. Они… понимали одни, что „смесительная чаша“ (кратер) означает душу, и „лира“ — мир, и „пещера“ — рождение…, что „умереть“ значит „родиться“, а „родиться“ — „умереть“, и что „быть“ — значит „быть воистину“, т. е. „быть как боги“, и „ты еси“ — „в тебе божество“, а неабсолютное „быть“ всенародного словоупотребления и миросозерцания относится к иллюзии реального бытия или бытию потенциальному…» [96].
Разумеется, в реальности многое из того, чего касается Вяч. Иванов, обстояло сложнее и вообще иначе, однако само по себе то, что многие словесные формулы древних язычников-магов спустя тысячелетия превратились в поэтические образы, — бесспорный факт. То, что ныне есть условная художественная метафора, когда-то могло быть частью колдовского заговора.
Обряды календарно-аграрного цикла в основе своей содержали языческие заговоры и различные по своей форме моления о хорошем урожае. В славянском фольклоре так называемая «календарная поэзия» вообще изначально была целиком связана с языческой магией. Колядки, веснянки, купальские, русальские, жнивные и т. п. песнопения объективно несли в себе большое эстетическое начало, но все же распевались древними людьми отнюдь не для своего художественного услаждения.
Те или иные конкретные магические функции проступают во многих идущих из древности словах и словесных выражениях с неизменным постоянством. В виде примера можно указать на следующий не лишенный интереса факт. Исследуя такой феномен языческой славянской магии, как «ограждение пространства голосом от вредоносной и нечистой силы», Н. И. Толстой говорит: «Русское чур , которое выкрикивалось для защиты от нечистой силы, создавало, по представлениям древних восточных славян, такое же огражденное пространство, о котором речь шла выше. Слово чур было бранным, матерным. Первейшей и древнейшей функцией матерщины была защита от нечисти, о чем уже имеется немалое число свидетельств» [97].
Читать дальше
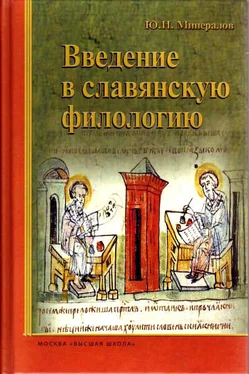
![Анатолий Малахов - Бунт минералов [В мире реальной фантастики]](/books/29021/anatolij-malahov-bunt-mineralov-v-mire-realnoj-f-thumb.webp)










