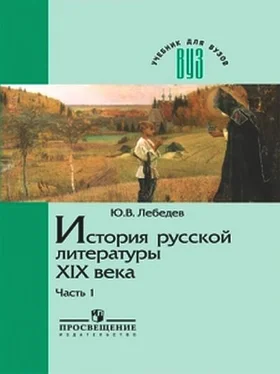Собравшись с духом, Гоголь стал писать Белинскому ответ.
О невежестве Белинского Гоголь сказал без обиняков: «Нельзя, получа легкое журнальное образование, судить о таких предметах. Нужно для этого изучить историю Церкви. Нужно сызнова прочитать с размышлением всю историю человечества в источниках, а не в нынешних легких брошюрках, написанных Бог весть кем. Эти поверхностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, а не сосредоточивают его. ‹…› Вы отделяете Церковь и ее пастырей от Христианства, ту самую Церковь, тех самых пастырей, которые мученическою своею смертью запечатлели истину всякого слова Христова, которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, молясь о них, и наконец утомили своих палачей, так что победители упали к ногам побежденных, и весь мир исповедал Христа. И этих самых Пастырей, этих мучеников, Епископов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отделить от Христа».
В ответ на превознесение Вольтера Гоголь сказал: «Вольтера называете оказавшим услугу Христианству и говорите, что это известно всякому ученику гимназии. Да я, когда был еще в гимназии, я и тогда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настолько ума, чтобы видеть в Вольтере ловкого остроумца, но далеко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся молодежь».
Больно задели Гоголя рассуждения Белинского о безбожии русского народа: «Что мне сказать вам на резкое замечанье, будто русский мужик не склонен к Религии и что, говоря о Боге, он чешет у себя другой рукой пониже спины, замечание, которые вы с такою уверенностью произносите, как будто век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, когда так красноречиво говорят тысячи церквей и монастырей, покрывающих Русскую землю. Они строятся не дарами богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым народом, о котором вы говорите, что он с таким неуваженьем отзывается о Боге, и который делится последней копейкой с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усердное подаяние Богу?… Теперь позвольте же сказать, что я имею более перед вами права заговорить о русском народе. По крайней мере, все мои сочинения, по единодушному убежденью, показывают знание природы русской, выдают человека, который был с народом наблюдателен и… стало быть, уже имеет дар входить в его жизнь, о чем говорено было много, что подтвердили сами вы же в ваших критиках. А что вы представите в доказательство вашего знания человеческой Природы и русского народа, что вы произвели такого, в котором видно это знание? Предмет этот велик, и об этом бы я мог вам написать книги».
Причину заблуждений Белинского Гоголь видит все в том же – в незнании России: «Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя судить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, в занятьях легких журнальными статейками и романами тех французских романистов, которые так пристрастны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит истина, и не замечают того, как уродливо и пошло изображена у них жизнь».
Гоголь показал Белинскому, что они расходятся в самом понимании «просвещения». Для Гоголя просветить человека – значит не только вооружить его знаниями, но и облагородить его сердце. «Хоть бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут… все друг друга готовы съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая личность и спрашивает невольно, где наша цивилизация?»
Однако Гоголь оставил эти ответы Белинскому в черновиках и написал ему другое письмо, в котором советовал не горячиться, беречь себя и настраивать на мирный лад свою страстную, мятущуюся душу.
В феврале 1848 года Гоголь возвращается на родину через Иерусалим, где он молится у гроба Господня о ниспослании ему сил для завершения труда. Эти силы были уже на исходе. Но в России работа пошла успешно, появилось вдохновение. Второй том был фактически написан полностью. И вот 2 сентября 1851 года Гоголь посылает матери из Москвы тревожное письмо: «Здоровье мое сызнова не так хорошо, и, кажется, я сам причиною. Желая хоть что-нибудь приготовить к печати, я усилил труды и через это не только не ускорил дела, но и отдалил еще года, может быть, на два. Бедная моя голова!»
Открыв завершенную уже рукопись, Гоголь вдруг почувствовал мучительную неудовлетворенность ею, начал правку и в несколько месяцев превратил беловик в черновик. А физические и нервные силы писателя были уже на пределе. Неподъемный труд, начатый сызнова, изматывал его вконец. 26 января 1852 года неожиданно скончалась жена А. С. Хомякова, в семействе которого Гоголь часто оттаивал душою. Эта смерть так тяжело на него подействовала, что окончательно подточила последние силы.
Читать дальше